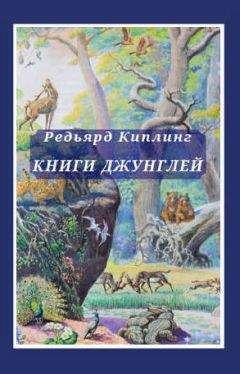— У меня угнали машину…
— Мы вернём вам две!
— Я знаю. Я рассказываю то, что со мной случилось. Наверное, я не так начал.
— Ага… Продолжайте, пожалуйста. Прошу прощения, что я вас прервал.
— Да. Так вот. Когда у меня угнали машину, я получил от вас две. Вторую я отдал жене — она как раз закончила курсы по вождению автомобиля, и это было как нельзя кстати. Когда молния ударила в дом и сожгла его дотла, ваша фирма построила мне два. Второй не был мне нужен, и пришлось его продать. Не без выгоды, разумеется…
— Вот видите! Наша фирма всегда честно соблюдает условия договора!
— Да… Но недавно я сломал ногу…
Киев был пуст. Тишина царила на улицах. Не светилось ни одно окно, и не потому, что за окнами спали: в квартирах не было людей.
Не горели и фонари, хотя ночь ещё не кончилась.
Во всем громадном городе не осталось ни одного человека. Грандиозный эксперимент удался. Может быть, он был не совсем правильным с морально-этической точки зрения, но это ещё надо смотреть: по законам какого времени? Бывают эпохи, когда люди едва ли не полностью отрицают то, что до них считалось абсолютно верным. Главное — у нас всё получилось. Киев был первой ласточкой. За ним неизбежно последуют другие: то, что удалось однажды, можно повторить многократно. Столько, сколько будет необходимо.
Кто уполномочил меня решать за миллионы людей? А кто уполномочивает других? Почему им можно одним мановением руки бросать в топку войны те же самые миллионы? Почему они могут принимать решение начинать войны, бросать атомные бомбы на головы мирных жителей? Почему они с лёгкостью расписываются за других, распоряжаются чужими жизнями? Почему их после этого не мучает совесть?
Почему им — можно, а мне — нельзя?
Главное, что цели у меня были самые благие. И пусть я ещё не до конца понимаю, что произойдёт по окончании эксперимента, во что он выльется, сейчас для меня основное — осознание собственной правоты. Пускай мне когда-то говорили, что я — сумасшедший, пусть пытались удержать, пусть грозили всеми мыслимыми и немыслимыми карами. Я отмёл все возражения. ЭТО я могу сделать. Имею полное право.
Людей мне не было жаль. Когда их выводили ночью из квартир, и они испуганно озирались, когда спускались по лестницам. Но, в конце концов, они были к этому готовы. И не я подготовил их! Они привыкли повиноваться. Хотя бы в этом совесть моя чиста. Да и во всём остальном. Я считаю, что я прав, поэтому поступаю в соответствии со своей правотой.
Людей было много, очень много. Но нас было больше. Потому что провести всю работу надо было как можно скорее: чтобы никто никому не успел ничего сообщить. А если кто и успел бы — чтобы ему не успели поверить. А если и поверили бы — то чтобы не смогли ничего предпринять. Чтобы всё произошло так, как я задумал.
Что будет потом — неважно. Надеюсь, меня поймут правильно.
Мне говорили, что, возможно, не стоило убирать всех. Но я не хотел рисковать: мало ли какие флуктуации могут произойти? И как отбирать тех, кого можно, кого нельзя? Нет уж: всех так всех. А потом посмотрим.
Такого широкомасштабного эксперимента не проводил никто. Возможно, боялись. Чего? Ответственности? Возмездия? От кого? От будущего? От потомков? Они должны за это быть только благодарны.
Нет, помнится, в США была попытка провести нечто подобное, хотя и несколько иного плана. Но в последний момент исполнители испугались. Чего — моральной ответственности? Или им помешал тот же «страх перед будущим»? Меня подобные страхи не мучают. Я считаю, что я прав — и, значит, я прав.
Я шёл по улицам и поглядывал на постепенно синеющее небо. Приближался рассвет. Он должен подтвердить мою правоту.
Да, люди — слишком большая ценность, чтобы ими разбрасываться. Правда, не все это понимают. Но когда-то должны начать понимать! Для этого я и решил провести свой сумасшедший эксперимент. Я надеюсь, все, кого мы успели убрать из города, сумеют найти себя в будущем. Пусть оно будет немножко другим. Но я не думаю, что оно станет от этого хуже.
Я вышел к вокзалу. В небесах послышался тяжёлый отдалённый гул. Ничего, я успею исчезнуть. Время ещё есть: часы показывали три часа пятьдесят пять минут.
Было двадцать второе июня тысяча девятьсот сорок первого года…
— Завтра тебя казнят.
— Вот как? Ты торопишься. Не терпится избавиться от меня?
— А чего тянуть? — высокий человек, затянутый в черную кожу костюма с золотыми бляшками, пожал плечами. — Так или иначе, а конец один…
— На моем месте мог бы быть ты…
— А ты стал бы затягивать?
— Да, ты прав… Я могу высказать последнее желание?
— Завтра… А, впрочем, говори: я не уверен, что завтра тебя кто-нибудь выслушает.
— Ты не будешь присутствовать на казни? Лишишь себя такого удовольствия?
— Поверь, мне не доставит это большой радости. К тому же у меня много дел.
— И ты не хочешь отвлекаться на мелочи… Понятно. Я многого не прошу.
— Как обычно: бокал вина, трубку табаку?
— Нет. Пришли мне ромашку.
— Ромашку? Ты с ума сошёл! Где я её возьму? Город покрыт камнем на тысячу миль!
— Если бы на твоём месте был я, цветы росли бы повсюду.
— Впрочем, да — цветочницы. Они торгуют цветами. Кажется, я видел их на площади. Подожди, я сейчас приду.
Лязгнула дверь. Узник не изменил позы. Лишь слегка усмехнулся:
— «Подожди…» Я могу ждать целую вечность!
Площадь была пуста. Лишь одна девушка с корзинкой стояла у фонтана в центре.
Затянутый в кожу человек в несколько шагов пересёк разделяющее пространство.
— Ромашки есть? — отрывисто спросил он.
— О, это вы! — пролепетала девушка.
— Ромашки есть? — повторил затянутый в кожу, оглядывая цветочницу. Пожалуй, ей меньше лет, чем показалось сначала. Девчонка совсем. Продрогла на холоде, а не уходит. Что ж, вот и дождалась, заработала на кусок хлеба.
— Одна осталась, — она протянула цветок. — Последняя.
Он усмехнулся, принимая цветок и бросая в корзинку золотую монету:
— У меня не последняя!
— Благодарю вас! — цветочница склонилась в глубоком поклоне.
Хм. И с чего бы вдруг он так расщедрился? Но не отбирать же монету. Это недостойно правителя. И к тому же: целое королевство за один золотой. Один раз можно побыть и щедрым.
— Держи, — протянул он ромашку узнику. — Последняя.
Тот быстро взглянул на него.
— Нет, я не издеваюсь, — пояснил затянутый в кожу. — У девчонки была последняя ромашка.
— Ты очень великодушен, — проговорил узник, принимая ромашку. — Неужели сам ходил?