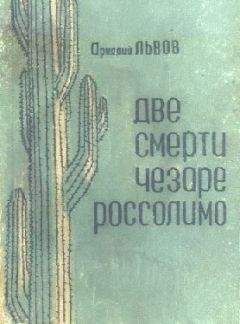Душевные движения человека неисповедимы, как пути господни, и жестокая ненависть к комиссару Марио Гварди, вставшему у диспетчерского пульта на заводе, была для Чезаре столь же внезапна, сколь и неодолима. Исключительное положение, в котором недавний полицейский клерк Гварди оказался по воле обстоятельств, а точнее, самого Чезаре, воспринималось как чудовищный контраст нелепому трудовому зуду рабочих. Всеобщее равенство, или, вернее, всеобщее бесправие и безоговорочное подчинение каждого Чезаре Россолимо на деле повторяло ту же Боготу суперменов.
"Умберто, - предостерегает меня Чезаре, - не торопитесь с заключениями: прежняя моя близорукость, как и внезапное прозрение, если так можно назвать новое мое видение, совершенно банальный вариант. Разве изобретатель пороха Бертольд Шварц провидел Тридцатилетнюю войну, а творец формулы Е=;мс2 - Нагасаки, Хиросиму и водородную бомбу?
Разве Дантон, Марат, Робеспьер отчетливо представляли себе Францию - Равенство, Братство, Свобода, - за которую они отдали свои жизни, и деспотия генерала Бонапарта была их идеалом? Впрочем, не надо параллелей: у меня, наверное, все проще - обыкновенное истощение душевных сил, которое сказалось при подходящем случае. Я верил, что постиг направление и сущноть человеческой истории, что предельная дифференциация и специализация - ее смысл, ее основной закон. И реализовать этот закон должен я. Но теперь этой веры у меня больше нет".
У маленьких людей - маленькие заблуждения, у больших большие. Мне странно упорство, с которым Чезаре цепляется за масштабные, монументальные объяснения. Нет, он так и не одолел убеждения в исключительности своего предназначения просто оно, это убеждение, было оттеснено другими, более сильными раздражителями. Но эти раздражители представлялись ему чересчур мелкими, чересчур незначительными, и он не решился говорить о них громко, во весь голос, даже накануне самоубийства.
Я думаю, ему впору было, как русскому царю Годунову, узурпатору и убийце, воскликнуть:
И все тошнит, и голова кружится,
И мальчики кровавые в глазах...
Но двадцатый век - не семнадцатый, и даже шепотом не поверяют теперь страданий, о которых еще сто лет назад голосили из каждой строки романа и письма.
И все-таки он снова и снова возвращается к своим жертвам: "Я убивал, я убивал себе подобных..." Одна смерть, которая рядом, страшнее тысячи смертей в соседнем городе и миллиона смертей на другом континенте. Кроче был задушен в стенах своего дома, у этих стен не было ни глаз, ни ушей. В Джорджтауне человека сорвала с шестого этажа пуля полицейского Чейнджа, и только глаза Чейнджа видели, как разбилось это человеческое тело о камни. Но Хесус Альмаден умирал рядом, умирал постепенно - от нервного истощения. Исцеление было здесь не под силу Чезаре Россолимо, потому что энергетика нервной и психической сфер оставалась для него такой же тайной, как и для каждого из нас. Предвидел ли он эту смерть? Он говорит - да, предвидел, но убеждал себя, что она придет много позднее, хотя вначале его больше беспокоило неумение сполна овладеть психоэнергетическими процессами, нежели перспектива неизбежной гибели доктора Альмадена.
Однако будущее, каким бы далеким оно ни представлялось, в конце концов становится настоящим - оно становится настоящим еще до того, как приходит, внося коррективы в наше восприятие, в наши действия и намерения. В чистом виде прошлое, настоящее и будущее не существуют; конечно, каждое из них можно рассмотреть особняком, но тогда мы узнаем о них не больше, нежели о работе сердца, вырванного из человеческой груди.
Побоище в Боготе, учиненное карателями Альмадена, трудовое рвение недавних забастовщиков, превращенных в ублюдков-роботов, и, наконец, смерть самого Альмадена - это были уже не провозвестники, а вестники, гонцы будущего, которое не сегодня-завтра станет повседневной действительностью, буднями. Джин, едва высвободив голову из бутылки, поверг в отчаяние своего мага, и маг, глядя на него, не мог не вспомнить: трудно извлечь джина из бутылки, но совершенно уже невозможно загнать его обратно.
Впрочем, все это поэзия, образами которой охотно пробавляется малодушие Чезаре. Подлинное же зло, надломившее его волю, было уже в самом начале пути: "Я убивал себе подобных..." Смерть необратима, и никакие индульгенции, никакие великие дела, которыми раскаявшийся Чезаре мог бы отблагодарить простившее его человечество, не в силах были бы освободить его от сознания причиненного зла.
"Доктор Умберто, вспомните, история знает людей, которые совершили более тяжкие преступления. Эти люди не карали сами себя. Больше того, понадобились многие годы, чтобы их покарали другие хотя бы символически. Кому нужна эта безнаказанность? Неужели самому человечеству? Я не верю этому".
Я тоже не верю. Но поднялась бы у меня рука, встань он передо мною с открытой грудью? Тиранов легко судят и казнят потомки, а современники... что ж, современники бывают разные: одни стилетами пронзают Цезаря в сенате, другие творят в его честь гимны.
Разные бывают современники.
Но человечество взрослеет. И мужает. И может быть, высшей гражданской зрелости, высшей мудрости оно достигнет тогда, когда каждый будет себе таким же твердым и неподкупным судьей, каким нынче бывает порою только общество.
Чезаре-судья вынес приговор Чезаре-преступнику, человек казнил тирана. Это чудовищно - очеловечение, достигнутое ценой смерти! Но нравственности чуждо хитроумие софистов, она не знает великих и не великих, и законы ее едины для всех: мера преступления - мера наказания.
Ночь была черная - без луны, одни звезды, и я с удивлением думал, что десятки тысяч звезд не могут заменить одну луну. Щебенка отвечала на каждый мой шаг натужным зубным скрежетом, но теперь это уже не доставляло удовольствия, теперь это вызывало досаду. Хотелось даже остановиться, чтобы не стало скрежета, и я в самом деле раз или два замедлил шаг, однако, тут же, едва приметив замедление, восстанавливал прежнюю скорость.
Километрах в восьми от Пуэрто-Карреньо дорога брала круто вправо, а отсюда казалось, что никакого поворота нет - просто дорога внезапно обрывается, упираясь в сплошную стену леса. Небо над городом, зеленое с желтым, клубилось и вздрагивало, как луч гигантского кинопроектора, направленный с земли. Пробивая толщу экрана, в верхних слоях луч утрачивал яркость и чистоту красок; граница его с черным небом расплывалась, и проложить между ними, расцвеченным и черным небом, линейную, с одним измерением, границу мне не удавалось, потому что всякий раз приходилось то приближать ее к центру, то удалять от него. Бестолковое и нудное, занятие это напоминало упражнения софистов по определению понятия кучис прибавлением какого камня данное количество становится кучей: два плюс один? три плюс один? четыре плюс один? - но уйти от него было выше моих сил. Навязчивые образы - либо начало болезни, либо симптом усталости. Проще всего было сойти с дороги и растянуться у первого же дерева. До поворота оставалось метров сто, я спустился с насыпи влево: отсюда виден был участок дороги, начинавшийся за поворотом. Здесь было душно, и от духоты тело мое становилось тяжелом и неповоротливым. Я долго не мог выбрать удобной позы и провозился с четверть часа, прежде чем нашел в себе силы лечь просто на спину и прекратить нелепые поиски. Секунд через десять я чувствовал себя уже вполне сносно, и перед глазами у меня, как всегда за минуту до сна, бесшумно теснили друг друга эластичные, в трех измерениях, тени. Иногда они напоминали своими очертаниями образы дневного, солнечного мира, но без их жесткости и угловатости.