Постукивая карандашом по клёпаной обшивке яйца, Лось стал объяснять подробности. Аппарат был построен из мягкой и тугоплавкой стали, внутри хорошо укреплён рёбрами и лёгкими фермами. Это был внешний чехол. В нём помещался второй чехол из шести слоёв резины, войлока и кожи. Внутри этого, второго, кожаного, стёганого яйца находились аппараты наблюдения и движения, кислородные баки, ящики для поглощения углекислоты, полые подушки для инструментов и провизии. Для наблюдения поставлены, выходящие за внешнюю оболочку аппарата, особые «глазки», в виде короткой, металлической трубки, снабжённой призматическими стёклами.
Механизм движения помещался в горле, обвитом спиралью. Горло было отлито из металла «Обин», чрезвычайно упругого и твёрдостью превосходящего астрономическую бронзу. В толще горла были высверлены вертикальные каналы. Каждый из них расширялся наверху в так называемую взрывную камеру. В каждую камеру проведены искровая свеча от общего магнето и питательная трубка. Как в цилиндры мотора поступает бензин, точно так же взрывные камеры питались «Ультралиддитом», тончайшим порошком, необычайной силы взрывчатым веществом, найденном в 1920 году в лаборатории …..ского завода в Петербурге. Сила «Ультралиддита» превосходила всё до сих пор известное в этой области. Конус взрыва чрезвычайно узок. Чтобы ось конуса взрыва совпадала с осями вертикальных каналов горла, — поступаемый во взрывные камеры «Ультралиддит» пропускался сквозь магнитное поле. Таков, в общих чертах, был принцип движущего механизма: это была ракета. Запас «Ультралиддита» — на сто часов. Уменьшая, или увеличивая число взрывов в секунду — можно было регулировать скорость подъёма и падения аппарата. Нижняя его часть значительно тяжелее верхней, поэтому, попадая в сферу притяжения планеты, аппарат всегда поворачивался к ней горлом.
— На какие средства построен аппарат? — спросил Скайльс.
— Материалы дало правительство. Частью на это пошли мои сбережения.
Лось и Скайльс вернулись к столу. После некоторого молчания Скайльс спросил неуверенно:
— Вы рассчитываете найти на Марсе живых существ?
— Это я увижу утром, в пятницу, 19 августа.
— Я предлагаю вам десять долларов за строчку путевых впечатлений. Аванс — шесть фельетонов, по двести строк, чек можете учесть в Стокгольме. Согласны?
Лось засмеялся, кивнул головой, — согласен. (Скайльс присел на углу стола писать чек.)
— Жаль, жаль, что вы не хотите лететь со мной: ведь это, в сущности, так близко, ближе, чем до Стокгольма.
Лось стоял, прислонившись плечом к верее раскрытых ворот. Трубка его погасла.
За воротами до набережной Ждановки лежал пустырь. Несколько неярких фонарей отражались в воде. Далеко — смутными и неясными очертаниями возвышались деревья парка. За ними догорал и не мог догореть тусклый, печальный закат. Длинные тучи, тронутые по краям его светом, будто острова, лежали в зелёных водах неба. Над ними синело, темнело небо. Несколько звёзд зажглось на нём. Было тихо, — по старому на старой земле. Издалека дошёл звук гудящего парохода. Серой тенью пробежала крыса по пустырю.
Рабочий, Кузьмин, давеча мешавший в ведёрке сурик, тоже стал в воротах, бросил огонёк папироски в темноту:
— Трудно с землёй расставаться, — сказал он негромко. — С домом и то трудно расставаться. Из деревни, бывало, идёшь на железную дорогу, — раз десять оглянешься. Дом, — хижина, соломой крыта, а — своё, прижилое место. Землю покидать — пустыня.
— Вскипел чайник, — сказал Хохлов, другой рабочий, — иди, Кузьмин, чай пить.
Кузьмин сказал: — так-то, — со вздохом, и пошёл к горну. Хохлов — суровый человек, и Кузьмин сели у горна на ящики, и пили чай, осторожно ломали хлеб, отдирали с костей вяленую рыбу, жевали не спеша. Кузьмин, сощурившись, мотнув редкой бородкой, сказал в полголоса:
— Жалко мне его. Таких людей сейчас почти что и нет.
— А ты погоди его отпевать.
— Мне один лётчик рассказывал: поднялся он на восемь вёрст, — летом, заметь, — и масло, всё-таки, замёрзло у него в аппарате, — такой холод. А — выше лететь? А там — холод. Тьма.
— А я говорю — погоди ещё отпевать, — повторил Хохлов мрачно.
— Лететь с ним никто не хочет, не верят. Объявление другую неделю висит напрасно.
— А я верю, — сказал Хохлов.
— Долетит?
— Вот, то-то, что — долетит. Вот, в Европе они тогда взовьются.
— Кто взовьётся?
— Как, кто взовьётся? Враги наши взовьются. На, теперь, выкуси, — Марс-то чей? — русский.
— Да, это бы здорово.
Кузьмин пододвинулся на ящике. Подошёл Лось, сел, взял кружку с дымящимся чаем:
— Хохлов, не согласитесь лететь со мной?
— Нет, Мстислав Сергеевич, — важно ответил Хохлов, — не соглашусь, боюсь.
Лось усмехнулся, хлебнул кипяточку, покосился на Кузьмина:
— А вы, милый друг?
— Мстислав Сергеевич, да я бы с радостью полетел, — жена у меня больная, не ест ничего. Съест крошку, — всё долой. Так жалко, так жалко…
— Да, видимо — придётся лететь одному, — сказал Лось, поставив пустую кружку, вытер губы ладонью, — охотников покинуть землю — маловато. Он опять усмехнулся, качнул головой. Вчера — барышня приходила по объявлению: «Хорошо, говорит, я с вами лечу, мне 19 лет, пою, танцую, играю на гитаре, в Европе жить не хочу, — революции мне надоели. Визы на выезд не нужно?». Что у этой барышни было в голове — не пойму до сих пор. Кончился наш разговор, — села барышня и заплакала: — «Вы меня обманули, я рассчитывала, что лететь нужно гораздо ближе». Потом, молодой человек явился, — говорит басом, руки потные: «Вы, говорит, считаете меня за идиота, лететь на Марс невозможно, на каком основании вывешиваете подобные объявления?». Насилу его успокоил.
Лось опёрся локтями о колени и глядел на угли. Лицо его в эту минуту казалось утомлённым, лоб сморщился. Видимо, он весь отдыхал от длительного напряжения воли. Кузьмин ушёл с чайником за водой. Хохлов кашлянул, сказал:
— Мстислав Сергеевич, самому-то вам, разве, не страшно?
Лось перевёл на него глаза, согретые жаром углей:
— Нет, мне не страшно. Я уверен, что опущусь удачно. А если неудача, удар будет мгновенный и безболезненный. Страшно другое. Представьте так, — мои расчёты окажутся неверны, я не попаду в притяжение Марса: — проскочу мимо. Запас топлива, кислорода, еды — мне хватит надолго. И вот — лечу во тьме. Впереди горит звезда. Через тысячу лет мой окоченелый труп влетит в её огненные океаны. Но эти тысячу лет — мой летящий во тьме труп! Но эти долгие дни, покуда я ещё жив, — а я буду жить только в проклятой коробке, — долгие дни безнадёжного отчаяния — один во всей вселенной. Не смерть страшна, но одиночество. Не будет даже надежды, что Бог спасёт мою душу. Я — заживо в аду. Ведь ад и есть моё безнадёжное одиночество, распростёртое в вечной тьме. Это — действительно страшно. Очень мне не хочется лететь одному.
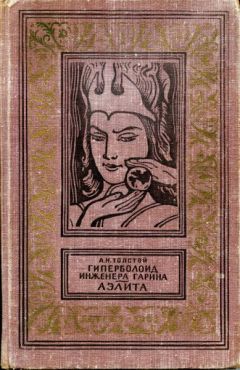

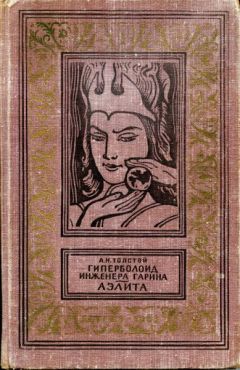
![Карочка - [email protected] - Наследники](https://cdn.my-library.info/books/no-image-mybooks-club.jpg)
