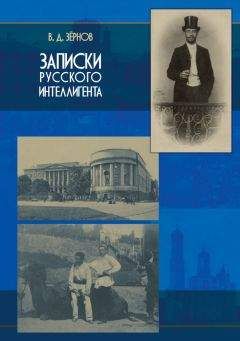— Ну не надо, не надо, — тихо говорил он. — Не вернешь и ничего не поделаешь, у всех так; общая судьба; не знаю уж, кому это понадобилось, но против жизни не пойдешь.
— Мы против жизни идем, — сказала Люда, улыбаясь и плача по-прежнему.
— Ну пожалуйста, не надо…
Люда замолчала и продолжала укладывать вещички, аккуратно их разглаживая ладонями. Потом накрыла коробку крышкой, перевязала широкой голубой лентой. Встала.
— Пора ехать, навестить твоего отца.
— Знаю, — ответил он с неудовольствием, уже надевая пиджак. — Рад бы не ехать. Не хочу. Но от нас не зависит.
— Ты ведь раньше — тогда — иначе к нему относился…
— Верно, — согласился он, подавая жене пальто. — Раньше я мало знал… и все мы ничего не знали. Хоть бы сейчас ничего не помнить!
— А я вот почти не помню, — сказала она, застегиваясь. — Приданое возьми. — Она выглядела теперь намного стройнее, чем была тогда, когда встречали Зернова на кладбище. — Очень, очень смутно…
— Повезло тебе, — сказал он в который уже раз: об этом они между собой разговаривали не впервые. — Тоже непонятно: отчего одни помнят хорошо, другие — смутно, третьи вообще ничего?
— Самые счастливые, — сказала она. Константин взял коробку с детским приданым, пробормотал: — Петя, Петюшка…
— Ну, идем, — сказала она, и они двинулись — навестить больного и вернуть то, что в свое время было подарком Натальи Васильевны к предстоявшему — тогда предстоявшему — счастливому семейному событию.
* * *
Зернов пролежал дома неделю с небольшим, постепенно приходя в себя, хотя был еще очень и очень слаб. Потом Наталья Васильевна увезла его в больницу, и там он пролежал еще почти месяц: его выхаживали, потом прооперировали. Операция была несложной, потому что раньше у Зернова ничего удалять не стали: оказалось, что бесполезно. И теперь его положили на стол, хирург автоматически, бездумно действуя пальцами, иглой удалил свежие швы, вскрыл полость, все переглянулись, безнадежно покачали головами, потом хирург стал показывать, и все смотрели на то в полости, что он показывал. Стали снимать зажимы, хирург решительно повел скальпелем, за которым плоть срасталась — не оставалось никакого следа от разреза. Из больницы Зернов вышел значительно более бодрым, чем вошел туда. Вернулся домой, обходясь уже почти совсем без посторонней помощи. Вскоре приехал врач, Зернов отдал ему полученное в больнице направление, врач, как и раньше, снял ручкой все вписанное в бланк, приложил резиновый кружок, чтобы исчез оттиск печати, и двумя пальцами уложил чистую бумагу в свою сумку. Они еще немного поговорили о здоровье, потом врач осмотрел и выслушал его и сказал, что теперь Зернов быстро выздоровеет. Зернов откровенно сказал врачу, что ни черта не понимает: медицина стала какой-то новой за время его болезни. Врач почему-то оглянулся и, пригнувшись, вполголоса сказал, что и сам ничего не понимает во всем этом.
А потом, спеша, чтобы Зернов не собрался с мыслями и не стал задавать вопросов, заговорили о другом.
— Ну, прекрасно, — сказал врач, — лежите, поправляйтесь. Я теперь, как вы и сами знаете, к вам приходить больше не стану, через месяц увидимся с вами у меня в поликлинике — вы тогда поймете наконец, что болеть у вас будет далеко не случайно, вы ведь из живущих по принципу «гром не грянет — мужик не перекрестится». Тогда мы и обнаружим у вас эту пакость, это самое новообразованьице. А уж дальше пойдут семечки: болеть будет все реже, и скоро вы вообще обо всем этом забудете.
— Вы так точно знаете все наперед?
— Это-то не фокус, — усмехнулся врач одними глазами. — Все знают все наперед, не я один. Это элементарно. Вот прошлого мы, к сожалению, в большинстве своем не помним. Не знаем, что было вчера. А завтра — оно открыто, никаких секретов в себе не таит… — И он взял сумку и направился мыть руки в ванную, где его уже ждала Наталья Васильевна с чистым полотенцем в руках.
— Погодите, доктор…
— Послушайте, — сказал врач строго, не поворачивая головы, — вы думаете, вы у меня один на повестке дня? Нимало-с. И я спешу. На наше счастье, у нас было время поговорить, но… Ничего, разберетесь как-нибудь сами. И поймете: это, в общем, прекрасно — когда будущее открыто взорам. И не только это. Для нас, медиков, это просто праздник души: больные-то все как один выздоравливают — раньше или позже, но непременно выздоравливают, разве не счастье? Да и во всем прочем: ничего не надо гадать, ни в чем — сомневаться, ибо все известно, все определено. События расчислены по годам и минутам на всю жизнь вперед. А вы не ломайте головы и делайте так, как оно делается. Не пытайтесь перехитрить жизнь. Думайте лучше о делах практических. Потому что вскорости вам на службу: через три дня, если хотите точно. Как только возникнет у вас возможность, выходите на улицу. Хотя что я говорю — выйдете, разумеется. Погода такая, что дома торчать просто грех. Двадцатое июня, самый свет.
* * *
Зернов полежал еще немного. Но после того как доктор уверенно обнадежил, больше не лежалось. И в самом деле, пустяки какие-то, наверное, а все уже вообразили черт знает что, и сам он, главное, поверил — и раскис… Зернов поднялся, пошатнувшись, — слаб он все-таки стал, ничего не скажешь, — натянул брошенный в ногах кровати халат, подошел к растворенному окну, из которого тянуло свежестью пополам с бензиновым перегаром: окна у Зерновых выходили на улицу. Надежно оперся о подоконник и стал смотреть. Была у него такая привычка. За окном стояла летняя теплынь, люди шли в пестром, легком, приятно было смотреть, в особенности на женщин, хотя с четвертого этажа много ли разглядишь. Подумав о женщинах, он сразу же вспомнил про Аду, воспоминание было странным: то ли подлинно воспоминание, то ли, напротив, предчувствие, а если предчувствие, то опять-таки непонятное: горькое и сладкое одновременно. Почему?.. Солнце ярко отражалось в окнах по ту сторону улицы, все как будто было нормально. И все же — ощущал он — какие-то странности возникли в жизни. Что-то непонятное. Хотя все вроде было — как всегда… Так уж и все? Вдруг Зернов понял, что его так смутило подсознательно: движение на проезжей части улицы шло по левой стороне. Как в Англии — ив Швеции тоже, или как там, в Швеции?.. Ну а у нас-то зачем? Сначала, поняв это, он испугался: то-то сейчас наломают дров! Но ничего не происходило, все ехали нормально, надежно — по левой стороне. Да, действительно, кому и зачем вдруг понадобилось — все менять? Или, может, заключили такое всемирное соглашение — к чему? Глупости какие-то… Вот что хуже всего, когда расхвораешься всерьез: лишаешься информации, газет не дают, и радио тоже он как-то не слушал в это время, не до того было… Ну а еще какие перемены? Зернов начал приглядываться ко всему, что было внизу, повнимательнее и заметил еще: игрушечный грузовичок, самый примитивный, ехал по тротуару задом наперед и на веревочке тащил за собой мальчика лет, может быть, трех, и мальчуган этот бежал за грузовичком, но бежал не лицом вперед, что было бы нормально: игрушка, конечно, заводная, и мальчик бежит за нею, чтобы не удрала, — но мальчик бежал пятясь, глядя назад — и бежал смело, и никто его не останавливал, чтобы предотвратить беду — конечно, Зернов и раньше знал, что люди, большинство, какими-то равнодушными ко всему стали, но чтобы до такой уж степени, чтобы даже ребенка не поберечь… Зернов хотел было высунуться из окна побольше, чтобы окликнуть мальчика, предупредить — но ни тело, ни губы почему-то не повиновались. «Ната!» — хотел он крикнуть, но губы снова не подчинились. Тогда Зернов отошел от окна, сел около телефона и хотел уже набрать номер Сергеева, бывший свой — но не набрал, а задумался вдруг еще над одной странностью, обнаружив ее на сей раз в себе самом.