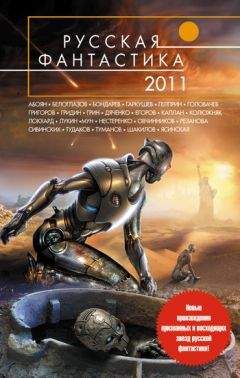Страх поднимается к горлу, спирая дыхание. Погода просто отвратительная.
…В детстве у меня ничего не было. Ни красивых игрушек, ни добротный одежды, ни полноценного питания, ни поездок на курорты и здравницы. Тогда я не осознавал этого, не обращал внимания. Детство и так удалось, самые мои приятные и живые воспоминания связаны с детством.
Семья наша жила бедно. Отец, сотрудник НИИ, зарабатывал даже меньше матери, которая и высшее-то не получила. Отец встретил ее в командировке в каком-то колхозе, на задворках необъятного СССР таких колхозов пруд пруди. Влюбился, увез. С милой рай и в коммуналке. Жили не ахти, но дружно.
Отец уходил рано и возвращался поздно: время съедала дорога – из области пока доедешь… Мать где только ни работала. Я, предоставленный самому себе, умудрялся и сносно учиться, и шляться дотемна на улице.
Повзрослев, я понял: у кого-то есть все, и сверх того – есть, и было раньше, когда я в порванной майке сигал вместе с пацанвой с обрыва над невеликой речушкой, мешая хмурым мужикам ловить рыбу. И тогда я принялся добиваться всего. Упрямство помогало. Наверное, часть моего упрямства передалась отцу с матерью: в девяностые капиталы сколачивались чуть ли не из воздуха, и родители, подавшись в торговлю, потели и кряхтели и с минуты на минуты рисковали вылететь в трубу, однако сорвали банк.
Мы переехали в столицу. На родителях висел кредит, квартира нуждалась в срочном ремонте, торговлю поприжали, у матери сильно сдало зрение, а у отца – нервы, но мы радовались, как дети.
Я подал документы в МГУ.
Вероятно, именно то, что у меня ни шиша не было, заставило карабкаться вверх, достигать результата. И я благодарил судьбу. Возносил хвалебные молитвы. Благодарил за новую, более доходную и престижную работу, за новую отдельную квартиру, за Настьку, за сына. Меня прижимало, и я, выпрыгивая из штанов, творил чудеса. Теряя, я каждый раз приобретал больше.
Удачливость, она строго до поры, пояснил Худой. Так бывает, поддакнул Борец. Бывает и по-другому, продолжил Худой. Кончилась твоя удача, сказал Борец.
Береги себя, подытожил Худой.
Над мусоркой сияли звезды, хрипло мяукал кот, в ночном клубе за углом играла музыка, в баке копошилась тень с горящими глазами – бездомная собака. Я обернулся. Они стояли совсем рядом.
Ты спросил – «за что?», сказал Худой. Ты неправильно спросил. Надо спрашивать: почему?
Их двое. Один высокий, плотный, похож на борца. Второй ниже ростом, он невероятно, чудовищно худ, у него гибкие пальцы, а глаза будто затянуты пленкой. Они спокойны, слегка медлительны, что не помешало Худому вмиг расправиться с собакой, которая вылезла из мусорного бака и, зарычав, бросилась, метя в горло – твое, Олег! – незащищенное горло. Худой разорвал ее голыми руками. Борец пожевал губу и длинно выругался.
Его напарник, ободряя, похлопал тебя по плечу. Позже ты проверял куртку сантиметр за сантиметром: крови не было. Как не было ее и на руках незнакомца. Увидимся, попрощались они и ушли.
Я кое-как добрел до лифта, поднялся в квартиру, запер на все три замка и забаррикадировал дверь. Спал не раздеваясь. Утром выглянул в окно на кухне: люди обходили мусорку стороной, возле баков лежали останки псины. Я прекрасно различал детали, словно пользовался оптикой.
Там мог бы лежать я.
Спускаясь в магазин за кефиром, я столкнулся со вчерашними визитерами повторно. Добрый день, поприветствовал меня Борец. Добрый, выдавил я. От расстройства купил вместо кефира молоко. Перепутал. Сварив кашу, занялся уборкой: запой превратил квартиру в хлев.
От уборки меня оторвал вой сирены: к соседу, Вениамину Фадеевичу, приехала «Скорая». Я тихонько спросил внучку соседа: что случилось? У дедушки острое отравление, сказала внучка. Его тошнило, мы вызвали врача.
Вениамин Фадеевич стоял в очереди передо мной, он покупал кефир.
Я живу затворником третий день, хожу по дому с тесаком, жру макароны. Кроме макарон, еды нет. Когда верещит звонок, я не реагирую. Я прибавляю звук у телевизора. Идите в задницу, думаю я.
Раздается хруст, я вскакиваю: они сидят в креслах. Борец ломает спички. Он ломает их пучками, на полу целая гора сломанных спичек.
Я бледнею и замахиваюсь тесаком…
Бережешь себя? – смеется Худой. Неправильно бережешь. Дай. Отнимает тесак.
Я привыкаю к их визитам. Завтра я наберусь мужества и спрошу: что вам надо?
Главный в кошмарной парочке – Худой, говорит преимущественно он. Высокий бурчит, хмыкает и норовит прикинуться шлангом. Это не так. Они ничего мне не сделали. Пока.
Наступает завтра, я спрашиваю. Худой складывает брови домиком и не отвечает. Я, запинаясь, излагаю смутные догадки – если судьба решила покуражиться, то кто исполняет ее волю? Марает руки о смертных? Не сама ведь? Где слуги? Ну, или прислуга.
Реакция странная: Худой оскорбился, Борец, наоборот, ржет как лошадь.
Значит, сглатываю я, вы не имеете отношения к…
Нет, сказал Худой. Нет, пробурчал Борец. Перестань задавать идиотские вопросы! – рявкнули оба. Мы бережем тебя.
Я боюсь их до рези в печенке.
Они подчас заглядывают на огонек, сидят, пялятся невозмутимо, молчат. Борец украдкой грызет ногти, лицо у него в шрамах. Проверяют – все ли в порядке.
Меня неоднократно пытались зарезать в подворотне, сбить грузовиком, взорвать банальной утечкой газа; я, как магнит, притягиваю алкашей и наркоманов; меня постоянно останавливают менты, якобы я в розыске; из поднебесья на мою злосчастную голову валятся кирпичи, стекло и различные острые предметы; я заболеваю гриппом, и в больнице меня по ошибке накачивают убойной дозой снотворного. Но я храню спокойствие.
Меня берегут.
Вопрос «почему?» уже не интересен, Худой как-то обмолвился: слишком громкое «спасибо» влетело не в те уши. Благодарить судьбу надо вполголоса. Мол, есть завистники. Чувство зависти – первейшее у людей. И у нелюдей. И у совсем-совсем нелюдей, кого и живыми-то назвать мудрено. И они, нелюди то бишь, не успокоятся.
А вы?
А мы тебя бережем, улыбается Худой. Не ссы, прорвемся, подмигивает Борец.
Для чего меня берегут?
Мне обрыдло так жить, обрыдло ловить сладкий кайф отложенной смерти. Вернулся страх, и он час от часу усиливается. Я непрерывно думаю: успеют ли меня уберечь? Смогут ли? Вдруг сегодняшний день последний? Снятся гробы и кресты. И траурные процессии.
И снова дядя Филипп укоряет меня, говорит глухо – прижимая ко рту платок. Скрюченной артритом клешней он прижимает платок к губам, харкает кровью и с удивлением смотрит на пятно. Известное дело – читается в его выцветших подслеповатых глазах: два кубометра земли, косая оградка, и навестить-то некому. Да, Олежка?