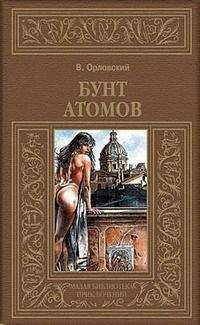- Ого!.. это уже скверно, дорогой Флиднер. Пожалейте, если не головы, то хоть вашу трость и расскажите в чем дело, если это не секрет.
Флиднер выпустил облако сизого дыма и задумчиво смотрел на собеседника.
Он часто встречался здесь с этим старым циником и скептиком, осевшим в Берлине, одним из обломков, рассыпавшихся по всему миру после русской революции.
Горяинов был еще несколько лет тому назад одним из видных в России инженеров-предпринимателей. С его именем связывали многие смелые проекты, касающиеся железнодорожного строительства, особенно в Сибири.
В нем видели будущего главу министерства в кабинете российской "оппозиции его величества". События перепутали карты, и он очутился в эмиграции с порядочным капиталом, вовремя спасенным в общем крушении. Теперь он отошел от всяких дел, вел жизнь независимого человека, немножко вивёра, немножко литератора (он выпустил в прошлом году томик своих воспоминаний, наделавший много шума в эмиграции); держался в стороне от всех партий, групп и группочек, одинаково надо всеми ими подсмеивался и, как говорили злые языки, натравливал их друг на друга ядовитыми статьями, появлявшимися в газетах враждовавших лагерей под разными подписями.
Флиднер не понимал его, считал немного фразером и пустословом и все же любил беседовать с ним, находя какое-то болезненное удовольствие в циническом, как он считал, безразличии собеседника.
Они часто встречались в этом тихом кабинете, рядом с гомонящим залом, и Флиднер рассказывал инженеру о многом, о чем не рискнул бы говорить с соотечественниками. И теперь на вопрос Горяинова он задумался не от колебания, говорить или нет, а просто не оторвавшись еще окончательно от своих мыслей.
- Секрет? нет,- ответил он наконец,- да и какой может быть секрет, раз он стал достоянием сыскной полиции?
- О-о! даже до того дело дошло?
- К сожалению. У меня украдены секретные Документы, касающиеся моей работы. Понимаете ли: расплавлена решетка, вырезано стекло, проломана стена,- словом, грабеж по последнему слову техники.
- Недурно! - в глазах собеседника зажглись веселые огоньки.- Конечно, друзья из-за Рейна?
- Разумеется. Я больше чем уверен, что эта старая лисица из Нанси дергает ниточки. О, с каким удовольствием я бы ему перервал горло!
- Не будьте так кровожадны, дорогой. Ведь если говорить откровенно, то это был только реванш, не правда ли?
- То есть?
- Мне вспоминается, что года полтора назад очень похожий случай был именно в Нанси... Несколько в иной обстановке, но с тем же результатом. Пропажа бумаг и даже порча кое-каких приборов и установок.
- Ну, и?
- Ну, и в "Temps" высказывалась довольно недвусмысленная догадка, что ниточки дергали... гм, гм... из Берлина.
Флиднер усмехнулся.
- Хотя бы и так. Война есть война. И, естественно, радуешься поражениям врага и досадуешь на свои неудачи.
- А я думал, что мы теперь наслаждаемся миром, которым мудрые пастыри народов навсегда осчастливили своих пасомых.
- Бросьте эту сказку. Ей не верят теперь и грудные ребята.
- Отлично. Значит, так сказать, перманентная война. И когда же вы предвидите ее конец?
- Только тогда, когда эти молодчики за Рейном будут поставлены на колени.
- А как же с молодчиками за Ла-Маншем?
- Придет и их очередь. Рано или поздно. История справедлива.
- Утверждение рискованное... Но допустим, что так. Сказка начинается сначала? Фридрих Великий - вы наверху; Наполеон - вас подмяли; Седан - вы наверху; 18-й год - вас подмяли. В недалеком будущем, допустим, вы наверху, потом молодчики из-за Рейна опять выкарабкиваются. Знаете, вроде цапли, которая стоит на болоте и качается от головы к хвосту: нос вытащит, хвост увязнет; хвост вытащит, нос увязнет, и так дальше до бесконечности.
- Ну, нет, черт возьми; на этот раз будет конец. Мы их раздавим окончательно.
- Не правда ли? Так что Версаль покажется детской игрушкой? Вот это я называю трезвым взглядом на вещи. А не казалось ли вам иногда, дорогой, что все это достаточно уныло и беспросветно, и не стоит тех бед и той крови, в которой захлебывается человечество?
- Это - борьба за то, что для нас самое близкое и дорогое: борьба за родину и ее торжество. Неужели в вас нет совсем этого чувства и стремления?
- У меня? Нет, многоуважаемый. Я излечился радикально. Я со стороны гляжу на эту игру, не аплодируя никому из актеров. Мне все равно.
Глава II Дух ненависти
Флиднер вставал рано. Это была давнишняя привычка к регулярному образу жизни, которая поддерживала в нем неизменное спокойствие, уравновешенность и медлительную размеренность в словах и поступках, которыми он так гордился. Она сохраняла мозг, нервы и мускулы, держала мысль всегда отчетливой и ясной. И доставляло непередаваемое наслаждение такое точно регулируемое, медленное чередование округленных, законченных идей и образов; точно работа тщательно собранной и хорошо смазанной машины надежной и солидной фирмы.
Правда, за последнее время все чаще и чаще случались перебои.
Это было очень грустно; но, разумеется, всякий механизм рано или поздно начинает изнашиваться. С неизбежным надо примириться. Но все же следовало протянуть возможно дольше,- во всяком случае пока не будет выполнена взятая им на себя задача.
А тогда - пусть приходит старость...
Впрочем, на этом сейчас мысль останавливалась мало; именно сегодня она работала необычайно четко и плодотворно. Флиднер закрывал глаза, и ему казалось, что он чувствует физически, как по серым ниточкам нервов, от клеточки к клеточке ползут, цепляясь друг за друга, длинными прочными цепочками образы, выводы, широкие обобщения, складываясь в ясную, отчетливую картину.
Необыкновенное наслаждение!
И что важнее всего,- это не было самообманом, иллюзией возбужденной нервной системы,- нет: перед ним были реальные результаты, которые он мог ощупать руками. За последние тричетыре дня работа двинулась вперед гигантскими шагами, стало ясно, что еще немного, и будет найден ключ к загадке, которая откроет человечеству дверь в новую эпоху истории. Вопрос недель, месяцев - самое большее.
Флиднер ощущал внутреннее трепетание, необычайную обостренность всех впечатлений, будто предчувствие назревающего открытия. Уже вчера, глядя в окуляр микроскопа на толкотню атомов на флуоресцирующем поле экрана, он чувствовал трепещущую здесь силу, готовую брызнуть в мир широким потоком по мановению его руки. Еще немного!
Кроме того, вчера вечером принесли из типографии последнюю корректуру книги, издаваемой им сейчас, как подведение итогов многолетней работы. Груда листков с знакомым, приятно возбуждающим запахом лежала перед ним, и на заглавном листке ровными строчками мелкого шрифта бежали слова, как бы охватывавшие кратко историю его жизни: "доктора Конрада Флиднера, профессора и директора высшей школы в Берлине, тайного советника, доктора философии и точных наук"... И так же длинно и многозначительно было перечисление званий и титулов его старого учителя и профессора, памяти которого он посвящал свой труд. Флиднер перечитывал эти строчки, и ему казалось, что минувшие годы общей сумятицы, годы войны и революции, были только скверным сном, от которого он только что проснулся.