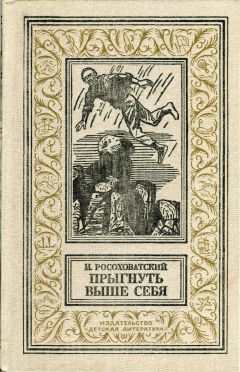— У разных по-разному,— роняет Павел Ефимович.
— Не скажите. Противостоять ему удавалось немногим. Да и тех он в какой-то мере озлоблял. А большинство людей после подобного потрясения предпочитают надевать маски. Вселенский карнавал. Волк, как известно, рядится в овечью шкуру, шакал прикидывается тигром или зайцем — в зависимости от обстоятельств и возможностей...
— А Сукачев?
— Чаще всего играл в добряка и чистосердца, хотя таковым не являлся.
— И все из-за нескольких неосторожных слов? Арсений Семенович откидывается на спинку стула, грозит пальцем так непринужденно и весело, будто они с Трофимовым знакомы много лет.
— А вы хитрец, товарищ следователь. Верно! Из-за нескольких слов да из-за того, что тебя в чем-то облыжно подозревают, человек не меняет натуру. Я и сам, наблюдая Толю, над этим задумывался, да времени на досужие размышления немного оставалось. Слова того дурня, видимо, только подхлестнули события, пробудили зерно дремлющее.
— Что именно?
— Пожалуй, в первую очередь недовольство своим положением в обществе.
— К нему относились несправедливо?
— Случалось и такое. Кто подобного не изведал или не заподозрил, пусть бросит в меня камень.
Трофимов исподлобья метнул веселый взгляд:
— Так изведал или заподозрил? И кто же из нас хитрец?
Арсений Семенович смеется, на худых щеках неожиданно появляются ямочки:
— Случалось и то и другое — как в жизни.
— И с вами?
— Что со мной? Ах, несправедливость? Ну, я — совсем другое дело. Я человек самоуверенный, не то что Толя. Меня не прошибешь.
Он опять рассыпчато смеется, но в смехе Трофимову чудятся горчинки. Павел Ефимович украдкой смотрит на часы и спрашивает напрямик:
— Вам известно, что он в своих публикациях использовал работы других?
— Чьи?
— Например, аспиранта Швыдкого и... ваши.
Бурундук супит брови, прячет растерянность за показной сердитостью:
— Мои — это мое дело. Может быть, я их ему подарил. Имею право? А Швыдкого? Слышал, но слухи, сами знаете,— доказательство ненадежное, особенно в науке.
— Вы были другом покойного?
Арсений Семенович отрицательно качает головой. Уголки губ против воли брезгливо изгибаются.
— Нет, другом не был. Друг — большое слово. Ответственное. За всю жизнь у меня один друг был. А с Толей мы — сокурсники, сослуживцы, старые знакомые...
— Вы часто ссорились?
Бурундук удивленно воззрился на собеседника:
— Ах, вот оно что! Случалось.
— Можно узнать, по каким поводам?
— Узнавайте, только не от меня.
— Почему же? Вы человек откровенный, не так ли?
— Знаете, о мертвых — хорошо или никак.
И опять губы брезгливо изгибаются, что-то неуловимо затаенное мелькает на добром, открытом лице, глаза прячутся за пушистыми ресницами.
— Нам еще придется вернуться к разговору о Сукачеве.— Павел Ефимович встает и протягивает для прощания руку.
— Что ж, пожалуйста.
Рука Бурундука оказывается мягко-беззащитной, вяловатой.
5
— Арсений Семенович? Этот вам наговорит. Он Толе завидовал всю жизнь. И когда Толюшу избирали председателем месткома, и когда награждали. Толюша всегда с людьми и для людей. А Бурундук — всегда один. Самоуверенный, хлебом не корми — дай гусей подразнить. А с самого — как с гуся вода. Ни с чьим мнением не считается. Вот хоть у людей спросите.
— Он сказал мне о себе почти то же самое.
— Вот как? Ну, да что ему, вечно с вызовом, потому и другие его невзлюбили.
— Значит, не ладил он с вашим покойным мужем?
— Он со всеми не ладил.
— В данном случае меня интересуют не все, а ваш муж.
— И с Толюшей тоже. Арсений Семенович как устроен? Главное для него — сделать по-своему, не так, как другие. И этим глаза поколоть людям: вот вы не сможете, один я такой умный. А если другого уважали больше, ценили, он аж из себя выходил. Выдумывал всякую всячину, обвинял во всех смертных грехах. Из тех, знаете, что в чужом глазу соринку видят, а в своем не видят и бревна.
— А в чем конкретно он обвинял вашего супруга?
— Да чепуховина всякая. Своего, видите ди, мнения не имеет, приспособленец...
— И только-то?..
Их взгляды встречаются, скрещиваются. Следователь замечает, что глаза у вдовы с легкой косинкой, что скорбные морщины у глаз почему-то противоречат осуждающе поджатым губам, а гордый постав головы не может скрыть возрастную усталость и тревожное ожидание в глубине глаз. И вдова что-то увидела новое в лице следователя и спешит добавить:
— Он придумал, будто Толюшенька включал в свои книги работы учеников.
— Это неправда, сговор?
— Только Бурундук и утверждал.
— А вот этого он мне о вашем муже не говорил.
У Сукачевой медленно, как на фотобумаге, проступает на лице выражение растерянности, и, пока оно не прошло, следователь спрашивает:
— Зачем ваш супруг держал дома спортивный пистолет?
— Он когда-то стрелковым спортом занимался. Да и потом, не глядя, что профессор, завкафедрой, выступал на соревнованиях за институтскую сборную. Ну и спортивный пистолет у себя держал.
— А он никого не опасался?
— Опасаться, говорят, надо и кошки. А то ведь исцарапает.
И снова следователь понимает, что это не ее слова. Но говорят они ему о многом.
6
Телефон звонит поздно вечером. Ожидая вестей от экспертов, Трофимов хватает трубку, слышит хорошо поставленный баритон:
— Павел, ты?
— Я,— отвечает, напрягая память: голос кажется знакомым.
— Как поживаешь, старина, нечасто беседуем, но старых друзей все равно положено узнавать по голосам. Тем более что на заседании комиссии, помнится, мой голос был не из последних...
— Геннадий Захарович?
— Зачем же так официально? Можно просто — Геннадий.
«Кажется, мои акции повысились, с чего бы это?» — удивляется Трофимов, вспоминая, что месяца два назад, когда следственный отдел посетила комиссия из «Большого дома», он встретился с однокашником по юридическому институту Геннадием Захаровичем Коржиком. Трофимов разогнался было вспоминать студенческие годы, Верочку и Саню, но Геннадий Коржик своевременно, начальственным намеком напомнил о разделяющей дистанции и о том, что теперь он, увы, для всех без исключения, Геннадий Захарович. «И не хотел бы подобной официальности, старик, но ради дела, чтобы не заподозрили в кумовстве, не сказали, что беру, мол, под крыло друзей-приятелей...» И бывший «друг-приятель» Павел Ефимович сразу понял все недосказанное и перешел на официальный тон. И вот теперь звучит из трубки: