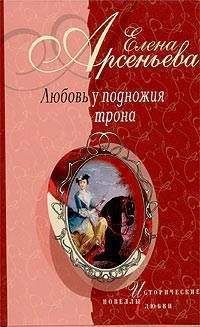Эртхиа кивнул, успокоенный, расстелил плащ поближе к костру.
Костер разгорелся, и, согреваясь, царь-странник обретал обычное расположение духа. Тяжесть, лежавшая на душе, стала легче еще в Хайре, под ясным взглядом Акамие. А когда тронулись в путь, каждый парсан, отделявший Эртхиа от долины Аиберджит, казалось, вдвое облегчал его ношу. В конце концов, если до его возвращения ничего не решено, о чем горевать? Не может Эртхиа ан-Эртхабадр жить скорчившись. Или петь в полный голос, или ножом по горлу. Пока до ножа не дошло, будем смеяться, песни петь. Дэнеш понимал жизнь так же, только смеялся реже. А песен от лазутчика Эртхиа и вовсе не слыхал. Но на свой лад, как казалось Эртхиа, Дэнеш тоже праздновал волю.
- Эй, что там? Нора? - спросил Эртхиа.
Дэнеш зачем-то рылся в песке, что-то тащил из склона.
- Посмотри, Эртхиа.
Эртхиа подошел, наклонился. Дэнешу удалось выдернуть длинную плеть, облепленную песком, - корень тамариска.
- Видишь? Это была ветка. А вот здесь она переходит в корень. Рассказать тебе о ней? Она зеленела и цвела, и давала сладкий сок, высыхающий в крупу, так же как те, которые ты видишь перед собой. Ветер, переносящий пески, засыпал ее, придавил тяжестью. Намного вглубь ты найдешь такие же ветки, превратившиеся в корни, и тамариск не умер, но пророс. Вот что я знаю о тамариске. Он согревает, кормит и учит: прорасти свою беду насквозь. Взойди над ней неистребимой надеждой. А снова навалится, подомнет под себя - снова прорасти. Пусть побеги станут корнями, и пусть другие пробьются наверх. Тамариск не знает отчаяния - и он победитель. Видел ты песчаные холмы, поросшие тамариском? Он связал песок, многократно прорастая из тьмы и тяготы.
Эртхиа потянулся руками, дотронулся до ветви-победительницы, подержался за нее, как за руку. Потом бережно присыпал песком.
- Будем спать? - напомнил неохотно.
- Разве? - согласился с его нежеланием Дэнеш.
Эртхиа с готовностью уселся рядом.
- Расскажи еще что-нибудь. Вот, например, это правда, что к вашим селениям нельзя подобраться, потому что их стерегут горные духи? Мне говорили сведущие люди...
- Сведущие люди? - переспросил Дэнеш, качая головой.
Эртхиа пожал плечами:
- Я же сам слышал, уж не знаю, что это было.
- А хочешь услышать сейчас?
Дэнеш вынул из-за пазухи дуу, поднес к губам. Всего несколько звуков разной высоты, следовавших друг за другом так естественно, что это не было даже мелодией, а просто - дыханием и сутью, выплыли в темноту и повторились несколько раз, не утомляя однообразием, но успокаивая постоянством. Дэнеш отнял флейту от губ и сказал, для Эртхиа, на языке хайардов:
Ты во мне так спокоен:
не зовешь,
не толкаешь в спину,
за руку не тянешь,
не просишь вернуться.
Только вижу все твоими глазами
и слышу лишь то, что ты бы услышал.
Помолчал, прикрыв глаза, снова поднес флейту к губам и продолжал наигрывать те же несколько звуков, пока Эртхиа не потерял ощущение времени и не растворился в сдержанной скорби добровольной разлуки. А когда Дэнеш положил дуу за пазуху, руки Эртхиа сами потянулись к дарне, он только просительно взглянул на Дэнеша и подхватил еще томившийся в одиночестве последний звук, и продолжил, не совсем так, но все же верно, и дарна пела по-своему, и звуки были отделеннее, и резче проступила тоска, ведь дарна поет не дыханием, а дрожью, но песня была та же. И Дэнеш кивнул и отвернулся.
О вернувшемся
Я боялся приблизиться.
С той стороны, где ночь пронзали ветви тамариска, я мог бы подойти незамеченным, и даже ашананшеди не услышал бы моих шагов. Но кусты могли вспыхнуть: я едва владел собой, и пламя грозило вырваться при малейшей оплошности.
В сердце роза.
Я шел на голос.
Она докликалась до меня, дозвалась. Я пришел. И увидел ее в объятиях другого, но не было ревности. Разве я мог прикоснуться к ней? И разве могла она не петь? И тот, кто вернул ей голос и жизнь, был достоин ее, - я не мог сомневаться. Разве не с этим я доверил ее Судьбе?
Сидевший рядом с ним ашананшеди был старше и имел, как все они, каменное лицо, но из камня драгоценного и прекрасно вырезанное. И эти складки по сторонам рта, про которые говорят, что они выдают коварство и жестокость, а мне всегда казались знаком сосредоточенности и твердости духа, были очень заметны при свете костра. И этот ашананшеди текучим движением поднялся, положив руку на грудь, там, где они носят свои метательные ножи.
Он просто давал мне знать, что я замечен, и я улыбнулся про себя: как я надеялся провести лазутчика!
Тогда и его спутник бережно отложил дарну - не на песок, а на расстеленный плащ. И вскочил на ноги. Я только теперь и рассмотрел его. Пока дарна была в его руках, он был с нею как бы одним целым, и для меня безлик.
А теперь он отложил ее и стал самим собой, и только. Был он невысок, коренаст, но с осанкой и повадкой благородного всадника, а его черты я узнал даже в темноте: он принадлежал к царскому дому Хайра. Но косы у него не было и волосы свободно падали на плечи и спину, на красный бархат кафтана. Косы у него не было. Как у меня.
И я вышел на свет, держа перед собой раскрытые ладони.
Заговорил младший.
- Мир тебе. Подойди к костру.
Подходя, я должен был назвать свое имя. Что ж, никто уже не мог помнить его в Хайре. И я поклонился, как гость хозяевам, и сказал без опаски:
- Тахин ан-Араван из Сувы.
Младший дернулся, сжав кулаки.
- Ты лжешь!
Ашананшеди не шелохнулся, но сузил глаза. Значит, тоже не поверил и показывал мне это. Значит, тоже слышал мое преданное позору и забвению имя.
- Это я, - сказал я больше для ашананшеди, чем для его пылкого спутника и, конечно, господина.
- Как это может быть, если тот, кто носил это имя, был предан огню за сто лет до моего рождения? - нахмурился молодой.
- Это я. И могу тебе сказать, что дарна, которую ты только что выпустил из рук - моя.
Я не смог сказать "была моей". Может быть, именно это и убедило их. Юноша задумался.
- Вот что: если она... - а он не смог сказать "твоя" и начал заново:
- Вот что: если ты - Тахин ан-Араван из Сувы, то покажи нам свое искусство.
И поднял ее, и протянул мне, шагнув близко. Я отшатнулся.
- Дай мне вон ту ветку.
Озадаченный, он оглянулся на ашананшеди. Тот, по-прежнему не произнося ни слова, скользнул к куче приготовленного хвороста и подал мне прут. Я взял его в руку.
Молодой сильно вздрогнул и замер с раскрытым ртом, глядя, как в ярком пламени обугливается тамариск - от стиснувшего его кулака до самого кончика.
Стремительный прыжок - и вот его молчаливый спутник стоит передо мной, и в обеих его руках призывно вспыхивают, отражая мой огонь, изогнутые клинки. Ветка упала, руки взлетели вверх - и мои мечи, выпорхнув из-за спины, ответили сияющей улыбкой.