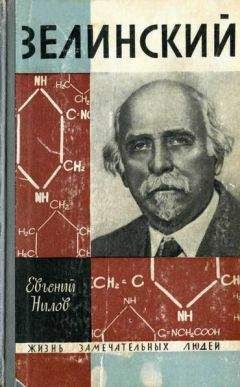— Подождите, не все сразу. Один кто-нибудь! Ну помолчите же!
В наступившей тишине Ким сказал унылым голосом:
— Теперь я понимаю, почему ты обязательно хотела сделать ратозапись.
Наконец Зарек разобрался во всей истории, привычно взял руководство в свои руки.
— Во-первых, выпейте все по стакану воды, — сказал он. — Все. Ты, именинница, тоже. Во-вторых, рассуждайте спокойно. Лечиться поздно, инфекция уже сделала свое дело. Мы убьем микробов, жизнь спасем, но молодость не возвратим. Значит, в-третьих, надо поставить научные наблюдения. В-четвертых, все мы, бациллоносители, здесь, и все должны идти в строгий карантин. Значит, нам и вести наблюдения. Ким, будешь моим помощником. Все прочие думайте, кому передать свою работу на время карантина. Придвигайся, Ким, смотри на мой браслет, займемся организацией…
Каждое утро ровно в восемь Ким клал на стол профессора тяжелую свинцовую коробку, очередную ратозапись Лады. Свистком вызывал машины — читающую и сличающую. Они выползали из стенных шкафов, шлепая мягкими гусеницами, держали наготове столик, похожий на нижнюю челюсть, готовились прожевать сегодняшний материал.
Уже через несколько минут сличающая машина металлическим голосом докладывала:
— Отмечаю изменения в областях АВ-12, АВ-14, 15, 16, АС-11.
А читающая разъясняла в свою очередь:
— В области АВ-12 повреждены синапсы. Шесть омертвевших клеток…
Процесс старения шел. Машина находила изменения повсеместно. А люди, друзья, ничего не замечали на глаз, видя Ладу ежедневно, ежечасно. «Она не меняется ничуть», — уверяла Нина. Но потом брала фотографии недельной давности и ахала: «Совсем другой человек!» И седина в волосах, и морщины на лбу, мешки под глазами, кожа дряблая, губы выцвели, стали тоньше, жилы надулись на руках, выпятились на шее.
Лада сама точнее посторонних отмечала ступеньки старения. Говорила Нине:
— Запиши — седая прядь в волосах, вчера ее не было. Усталость с утра: спала, но не отдохнула. Не хочется приниматься за работу. Страшно подумать, что надо еще переодеваться. Предпочитаю полежать с книжкой на диване. Нет, не о любви — о любви скучно читать.
А профессор и товарищи час спустя спорили, разматывая ратозаписи: из-за каких физиологических изменений умер у Лады интерес к любви, какие клетки выключились, какие гормоны перестали поступать в кровь, какие нервы в мозгу перестали соприкасаться.
Споры шли не только в Серпухове. Размноженная ратозапись, пересекая материки и океаны, мчалась в институты мозга всего мира. В Индии, Бельгии, Того и Перу выходили на трибуны молодые и пожилые лекторы с указкой, чтобы прочесть рефераты об изменениях в височной впадине Лады Гхор, о разрушении гипофизарных нервов Лады Гхор, о восемнадцатых сутках патологического состояния Лады Гхор.
Никогда еще не было такой возможности у науки — изо дня в день наблюдать старение. И Лада сама старалась помочь наблюдателям: вела почасовой дневник своих ощущений:
«Читала час. Заболела голова. В первый раз в жизни болит голова от чтения».
«Скучно читать про Венеру. Неотвязная мысль: «Я уже туда не поеду».
«Полнею. Прибавила полтора кило. Платья узки в талии. Все надо переклеивать».
«Тяга к нарядам все равно не пропадает. Хочется быть одетой к лицу, и никаких усилий не жалко. Интересно, где у меня в мозгу этот стойкий центр портняжных интересов?»
Но не всегда Ладе удавалось быть иронично-спокойной, наблюдать себя со стороны. Бывали дни, когда она теряла мужество, плакала перед беспощадно откровенным зеркалом. Лежала часами, уткнувшись лицом в подушки, проклинала свое самопожертвование. Потом вызывала Кима, выспрашивала, уверен ли он, что жизнь и красота вернутся к ней, хорошо ли сохранилась ратозапись, не надо ли ее дублировать.
И Ким в сотый раз терпеливо напоминал ей, что ратозапись повторялась ежедневно, говорил обо всех удачных опытах с животными… о неудачных умалчивал.
— А ты все еще любишь меня, Ким? — спрашивала Лада назойливо. — И такую любишь, выцветшую?
— Конечно, люблю, — уверял Ким. — Всю жизнь буду любить.
Сам себе он с удивлением признавался, что кривит душой. Чувства его изменились, сердце не поспевало за событиями. Когда-то он влюбился в смелую, яркую, юную искательницу необыкновенного. Поблекшая вдова была совсем другим человеком. Эту он уважал, жалел, был верным другом по долгу, без волнения. Прежде в присутствии Лады он трепетал, горел, сердце вздрагивало от ее шагов. Сейчас никакого трепета не было. Холодно, даже с оттенком раздражения он признавался в любви… для утешения. Лгал, но понимал, что признание необходимо Ладе, поддерживает ее, прибавляет бодрости.
Первый месяц Лада держала себя в руках: вела дневник лаборатории, изучала ратозаписи, находила поврежденные участки мозга, дискутировала об их назначении. После работы соблюдала режим, делала гимнастику, плавала в бассейне. Но в конце октября она простудилась, слегла в постель, вынуждена была оставить спорт и работу.
Во время болезни увядание перешло в старость. Гимнастику стало делать трудно, гулять утомительно, голова болела от мелькания ратозаписей. Появились боли в пояснице, в коленях, в затылке. Каждый день Лада сообщала длинный перечень болей. И странное дело: исчезла точность в ее наблюдениях, стареющая Лада стала мнительной. Какие-то боли не подтверждались ратозаписями, оказывались воображаемыми. И лечиться Лада стала всерьез, радуясь облегчению. Как будто забыла, что привила себе старость и никакие лекарства ей не помогут.
Прошли ноябрь и декабрь. Во всех частях света белые, желтые, смуглые, черные, бронзовые лица склонялись над кривыми, графиками, схемами мозга Лады. А сама Лада, уже совсем седая, сгорбленная старушка, проводила время у решеток отопления. Жила бесполезно. Ее уже не требовалось исследовать. Старость зашла у нее дальше, чем у Гхора, далеко за пределы, доступные для лечения.
Она стала беспомощной, потому капризной и раздражительной, изводила поручениями своих сиделок — безответно-добродушную Нину и Елку, далеко не такую добродушную и не такую терпеливую. И постоянно упрекала их за молодость: дескать, я свою отдала, а вы за мой счет пользуетесь, цветете, так будьте мне благодарны, хотя бы просьбы мои выполняйте проворно.
— Что я просила? Ну что? Неужели нельзя было запомнить?
Сама она ничего не помнила, забывала свои поручения, теряла баночки с лекарствами и пипетки; жила в полусне, не отдавая себе отчета, плохо понимая действительность, как будто на мир смотрела сквозь мутное стекло. Дни ее были заполнены процедурами. Подробно и многословно рассказывала она Киму о своих недомоганиях, записывала его советы, тут же теряла записочки и ругала Нину за беспорядок и невнимание.