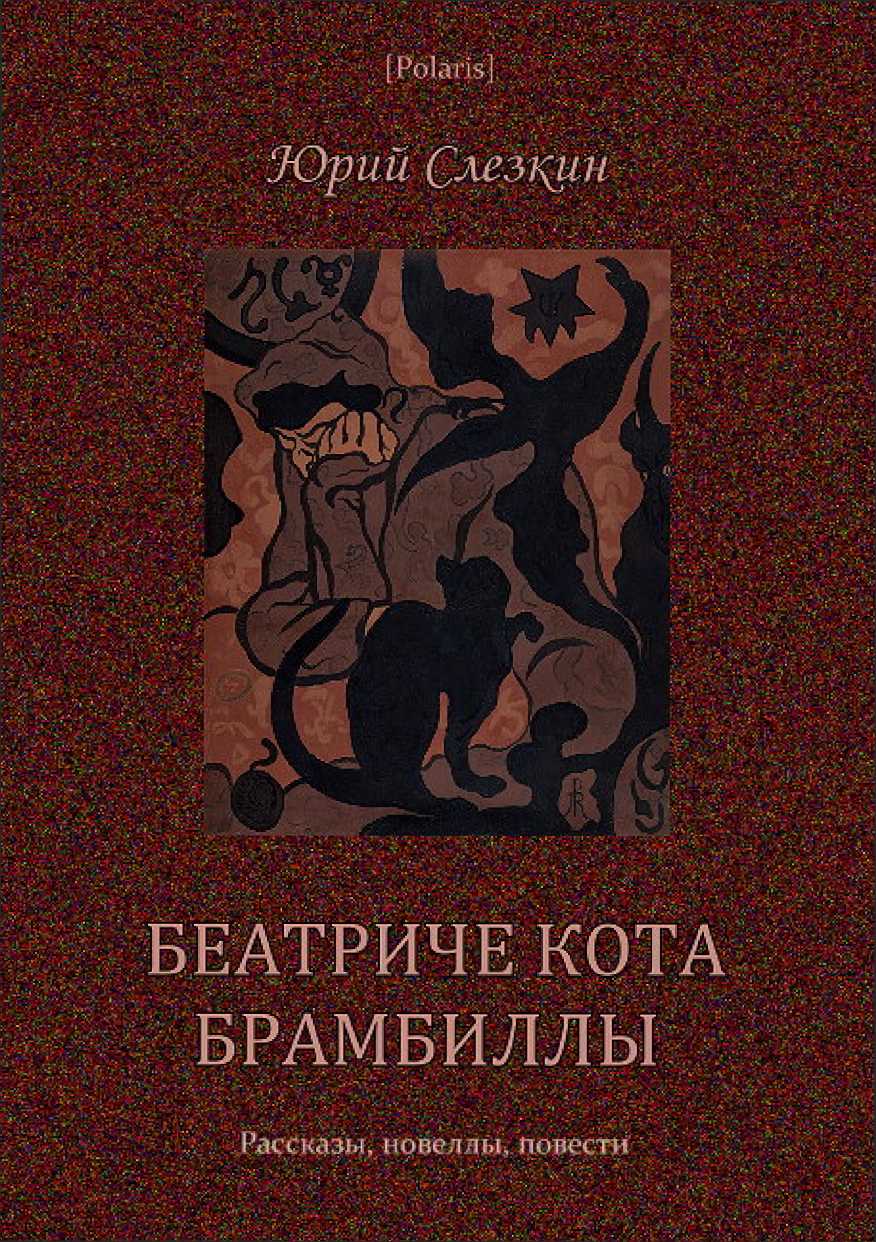С такими мыслями я вышел из дому и дошел до Склянной улицы.
Но когда перешел улицу и нашел указанный дом, во мне упала всякая решимость. Я взглянул на окна, освещенные внутри розовым светом, потом посмотрел на часы. Было уже двадцать минут десятого.
«Нет… глупо являться так поздно. Вздор! Не загорелось. Приду завтра», — решил я и повернул обратно.
Когда на другой день я в четыре часа подъехал к крыльцу дома Дохоцького, позвонил, и на звонок мой вышла опрятная, в белом переднике и кружевной наколке горничная, когда я увидел широкую и тоже опрятную переднюю, то сразу же понял, что мои предположения о мещаночке и тайном браке нелепы. Все, — начиная с горничной и передней и кончая гостиной, в которую меня сейчас же провели, все говорило о домовитости, аккуратности, а главное, о том, почти неуловимом на взгляд, но ясно чувствуемом «comme il faut» [13], который так приятен и встречается теперь лишь изредка в старых дворянских семьях. Ничего такого, что бы било в нос, шокировало. Чистые, выкрашенные масляной краской стены, покойная мягкая красного дерева мебель, милые, но немногочисленные, в овальных рамах дедовские портреты, круглая вертящаяся этажерка с книгами, брошенная на столе в уютном уголке неоконченная broderie anglaise [14] и особенный приятный запах домовитости и английских духов, все это и успокоило меня и поразило. Не было даже тропических растений, этих жалких худосочных пальм и фикусов, которыми украшаются обязательно все провинциальные гостиные.
Я не успел еще вполне осмотреться, как услышал за своей спиной торопливые, легкие шаги и, обернувшись, увидал идущую ко мне женщину.
— Очень мило, что вы зашли ко мне, — сказала она звучным ровным голосом, — я никого здесь не вижу и рада с вами познакомиться.
Она уже знала, кто я такой, так как, войдя, я передал горничной свою карточку с припиской: «товарищ Сумова — с поручением».
— Садитесь вот сюда и поговорим.
Она зашла за круглый стол и села на диван, — я поместился напротив в кресле.
Собираясь с мыслями, я окинул взглядом всю фигуру моей собеседницы. Мне редко случалось видеть женщин с такими спокойными, красивыми чертами лица, какие были у Анны Андреевны. Полная брюнетка, она держалась удивительно просто и с достоинством; карие глаза мягко смотрели на меня из-под длинных ресниц и густых, чуть сросшихся бровей; несомненно длинные, черные, без блеска волосы скромными гладкими прядями ниспадали на уши и оканчивались на затылке большим тяжелым узлом. На щеках горел ровный румянец; губы были несколько полны и выдавались вперед, но это придавало всему лицу милое, ребяческое выражение и скрадывало строгость прямого сухого носа и белого лба. На вид ей можно было дать лет 27–28. Особенно мне понравились ее детские губы и то особое движение головой, которое она делала, когда слушала — так склоняют и вздрагивают головкой растревоженные и прислушивающиеся зяблики.
Я поспешил заговорить, чтобы не показаться нескромным.
— Видите ли, я осмелился побеспокоить вас, — начал я, чувствуя, что краснею под ее спокойным правдивым взглядом, — так как должен исполнить последнюю волю моего друга — Николая Петровича Сумова.
— Простите, я не понимаю, — перебила меня Анна Андреевна, порывисто ухватясь руками за стол и внезапно бледнея, — как… как последнюю?
Я сразу же догадался, что она ничего еще не знала о смерти Сумова, и тут же попенял на себя за свою неосторожность. Но, раз начав, надо было идти до конца.
— Да, Анна Андреевна, Сумов умер, — ответил я, склонив голову, чтобы не смущать ее, — и вот письмо, которое, как видно, адресовано вам.
Я передал ей пакет и, поднявшись, отошел в сторону.
Она лихорадочно вскрыла конверт. Из него выпала пачка сложенных вдвое листков почтовой бумаги. Пока она читала, я остановился у окна и глядел на улицу, потом начал разглядывать портреты, но ни до улицы, ни до портретов мне теперь не было никакого дела.
В середине чтения Анна Андреевна подняла на меня глаза, в которых, как мне показалось, дрожали слезы.
— Вы уж простите меня, — прошептала она, — я сейчас кончу…
И снова склонилась над разбросанными листками. Я понимал, что неудобно расспрашивать Анну Андреевну о содержании письма, но вместе с тем только ради этого и пришел я к ей; только разузнав все, что можно, о кончине Сумова (я уже не сомневался, что в письме объяснены причины) я мог спокойно оставить этот дом. Догадываясь о тех чувствах, которые питала молодая женщина к моему другу, я понимал, как надо было быть осторожным, подходя к ней с такими вопросами, и потому боялся, что не справлюсь со своей задачей.
Наконец, она кончила чтение и вновь подняла на меня свои глаза. Минуту мы оба молчали. Она заговорила первая.
— Ну вот, теперь я уже все знаю…
И остановилась, не отводя от меня глаз, точно спрашивая, может ли она быть со мной откровенной.
Я подошел к ней и сел на прежнее место, радуясь такому началу.
— Я только теперь узнала все, но уже давно предчувствовала, что так будет, — снова начала она. Глаза ее ушли куда-то в сторону, куда-то далеко. Она опять сильно побледнела.
— Анна Андреевна, — сказал я, — не примите это за навязчивость и еще более за праздное любопытство, но ради Бога, объясните мне, если можете, что все это значит? Сумова я люблю, знаю его с детских лет, он был моим лучшим другом, и вот он покончил с жизнью, а я мучаюсь, тщетно пытаясь объяснить себе этот его поступок. Он для меня совершенно непонятен, почти чудовищен: мне не верится, чтобы он, мой весельчак Сумов, мог это сделать. Умоляю вас, не стесняйтесь меня, будьте откровенны…
Я умолк, напряженно и с беспокойством глядя на молодую женщину.
Она нервно перебирала листки письма, стараясь овладеть собою. Но в ее лице я уже не замечал недоверия. Без слов я почувствовал, что я ей симпатичен и что она будет говорить со мною, как с другом. Во всей фигуре, в скорбном выражении лица было столько подкупающей искренности, красоты и благородства, что невольно я почувствовал себя с ней, как с близким, родным человеком.
— Что же я вам скажу? — заговорила она. — Николая Петровича я любила… да, любила и мы с ним были большими друзьями. Я познакомилась с ним, когда еще был жив муж мой… у себя в имении… я только недавно переехала сюда. Потом он ушел… ему было тяжело, он думал, что я обвинила его… Глупый, я слишком любила его и не могла обвинять…
Анна Андреевна говорила тихо, но спокойно. Особенно спокойно, глубоко искренне и без тени жеманства или стыда, говорила она о своей любви к Сумову. Не было ни пафоса, ни обиды в ее голосе, хотя и чувствовалось, что любовь эта была неразделенной.
«Так может говорить о любви своей только мать или необычайно чистая женщина, — невольно подумал я, глядя на нее. — Какая она бедная, какая она милая…»
— Я только боялась, — продолжала молодая женщина, — я всегда боялась ее… она была и прекрасной и страшной… Если бы вы только могли ее видеть… И вот его нет. Нет, скажите мне, как же это так? Когда это случилось? Да говорите же!
Ее голос зазвенел и вдруг оборвался. Она не выдержала и зарыдала. Казалось, что она только теперь поняла, что Сумов умер.
Я пытался успокоить ее. Но она сама вдруг затихла, вытерла глаза и поднялась с места.
— Извините меня, я должна проститься с вами, меня ждут. Вот письмо его. Если хотите, можете прочесть. Оно вам все скажет. Только не забудьте мне его вернуть обратно. Прощайте.
Она протянула мне руку и даже улыбнулась обычной светской, вполне естественной улыбкой.
Я взял письмо и поспешил уйти. По тону ее голоса я догадался, что после неожиданно вырвавшегося вопля отчаяния она считала неудобным больше встречаться со мной. Я дал ей понять, что догадался об этом, сказав, что завтра же пришлю со своим денщиком дорогую ей рукопись.
VII
Всю дорогу до дома меня не покидал образ Анны Андреевны. Странно, сознавая все ее совершенство, я невольно ставил себя на место Сумова и чувствовал, что… что я поступил бы так, как Сумов. Это почти необъяснимо, но это так. У молодости есть свои законы любви, не подчиняющиеся рассудку. Молодость ищет опасности, ей редко нужна материнская ласка. Она еще тяготится самоотверженностью, она сама хочет жертвовать. Мы бежим от тишины, мы бежим от святости, потому что, испытав все это в детстве, мы боимся скуки…