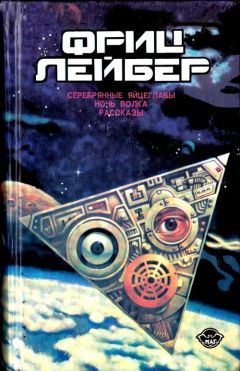Выжил же, вспомнил Баклавский. Нахлебался вонючей балленской водички, но выжил. Правда, здесь не колледж с его детскими забавами. Каждый вздох отзывался в боку тупым сверлом. Кровь из рассеченной брови заливала правый глаз, и Баклавский сквозь розовую пелену следил за высокой статной женщиной, прохаживающейся туда и сюда по опутанной сетями комнате. Волосы, достойные Снежной Королевы, струились по прямым плечам, сливаясь с безупречно белым шелком платья.
— Не хотите меня развязать, Хильда? — спросил он. — Вы странно встречаете гостей.
Королева Плетельни обернулась к Баклавскому, и на короткий миг ему показалось, что он поймал ее взгляд. За полуприкрытыми веками Хильды, как и у всех плетельщиц, виднелась лишь узкая полоска белков, зрачки путешествовали где-то под бровями.
— Развязать? — Голос ее оказался бесцветным и пустым, как брошенное осиное гнездо. — Вас?
— Ваше письмо, — сказал Баклавский, стараясь, чтобы от боли не дрогнул голос. — Энни передала мне его на словах. Я пришел по вашему приглашению.
Хильда замерла и почти минуту стояла неподвижно, прислушиваясь неизвестно к чему. Ей сто лет, понял Баклавский. Нет, двести. Старой белой паучихе двести лет. Она вообще не человек. Как я сюда попал? Чего я надеялся добиться этим долгожданным разговором?
— Я не собиралась беседовать с вами, — наконец сказала она. — Мы живем очень замкнуто, господин Баклавский. За пределами порта и слободы у нас есть глаза и уши, но нет ни рук, ни кулаков. Поэтому нам не от кого ждать помощи. Мы не доверяем никому, и нам нечего с вами обсуждать. А вы подкрались к несчастной Энни, а когда она напрямую сказала вам об этом, ваша гордость не позволила просто проглотить отказ. Меня не интересует, чьими руками вы действовали. Наша лучшая плетельщица убита, разорвана бомбой на куски, а у человека, повинного во всем этом, хватает наглости без приглашения ломиться в наш дом. Вы зря пришли сюда, господин Баклавский.
Во рту стало сухо-сухо. Сейчас тяжелеющее тело просто выдернет онемевшие руки и ноги из суставов — и клейким студнем, безвольным холодцом расплещется по полу. Убита! «И даже жизнь оставив на кону…», тонкие пальцы в его руке, напряженный силуэт на фоне сцены… «Мы гибнем, у иллюзии в плену». Убита!
— Хильда, вы ошибаетесь, — сказал Баклавский. — Мы говорили с Энни… договорились, что вечером я встречусь с вами. После этого я сразу ушел из театра. Я даже не знал, что это ее экипаж пострадал…
— Экипаж? — в голосе Белой Хильды явственно зазвучала угроза. — Экипаж? Железная коробка на колесах? Вы поняли, что сделка не состоится, что Плетельня не собирается открывать вам двери, и отправили мне весточку. Мою девочку, мою Энни — кусками. Ваша чок-дэ оставила вас, господин досмотровик. Рауль!
Где-то вне поля зрения скрипнули половицы, и над Баклавским нависло широкоскулое асимметричное лицо. Хильда отвернулась к стене, и в комнате словно стало еще темнее.
— Здравствуй, мяско! — тихо и миролюбиво сказал Рауль. В его глазах можно было разглядеть бескрайние просторы моря, океан без берегов, ночное небо с миллионом звезд… Все, кроме разума. — Скоро ты узнаешь, что такое «больно».
Баклавский трепыхнулся, пытаясь отстраниться от страшных глаз, выпростать хотя бы одну руку или ногу. Тщетно.
— Наши дочери никогда не становятся плетельщицами, — сказала Белая Хильда. — Они неизбежно уходят в мир и забывают нас навсегда. А наши сыновья обречены стеречь покой Плетельни. Поэтому им не стать ни великими учеными, ни бравыми адмиралами. Так сложилось. Жизнь такова, какова есть. А сегодня так сложилось, что мы попрощаемся с вами, Баклавский. И Пуэбло-Сиам, и Новый порт, и Стаббовы пристани вздохнут с облегчением. Вы опутали липкой сетью маленьких одолжений целый город. Но в Плетельне ваши правила не действуют.
Еще один моряк вошел в комнату, и шест, на котором висел Баклавский, взметнулся вверх и лег на чьи-то плечи. Рана в боку расцвела огненным цветком.
— А эту девочку я выкупила у подземных совершенно случайно. Маленькая смышленая и еще зрячая малышка вязала им шарфы да шапки, сидя где-то в пещерах под Механическим. Один из моих сыновей купил на базаре платок, сделанный руками Энни. Никто не верил, что такого совершенства может достичь шестилетнее дитя, к тому же уродка.
Баклавского понесли. Хильда шла рядом, едва не задевая его лицо широкими шелковыми складками юбки.
— Когда мы выторговали ее у подземных, Энни была уже на грани слепоты. Не слишком-то много она и стоила, вправду сказать. Только двадцать лет спустя разве это имеет значение?
Под ногами носильщиков загудели чугунные ступени. Баклавского пару раз приложили головой о перила. Свело икру, но кричать уже просто не было сил. Хильда не отставала от процессии, хотя и задышала тяжело. Ее речь иногда превращалась в бессвязное бормотание — собеседник ей и не был нужен. Это реквием, подумал Баклавский. Не по несчастной плетельщице, а по мне. И не выскочат из камышей удалые «штифты», и Мейер не переоденется матросом с веревкой в ухе… Как глупо…
Длинный узкий тоннель вел все вниз и вниз. Здесь стены не декорировались сетями — мутные известковые потеки были единственным украшением сводов. Куда это? Неужели к подземным? Один из тех ходов, за информацию о которых полиция сулит золотые горы…
— …Узелок к узелку и нить к нити. Энни, моя малышка, моя лучшая девочка…
Заскрипели засовы, и спереди потянуло затхлым и совсем незнакомым воздухом. Блеснул свет фонаря. Чужие, совсем чужие шаги приближались оттуда, из-за потайной двери.
— …Прилежность и усердие могут победить все. Четырехпалая уродка, подземная калека, гадкая уточка — она выросла и превратилась в прекрасного лебедя. Вам не стоило ее убивать, Баклавский. Прощайте.
«Я буду держать вас за руку, Ежи, так нам будет легче понимать друг друга».
— У вашей Энни было пять пальцев, — прохрипел Баклавский. — Все вы врете, Хильда.
И потерял сознание.
Когда в рот плотно вбита пахнущая китовым жиром дерюга, то приходится молчать, потому что мычание недостойно мужчины. Когда локти, плечи, колени и бедра накрепко прикручены к холодной раме кровати, дергайся не дергайся — не вывернешься из-под этих рук, холодных и безжалостных. Наверное, в другой ситуации они бывают мягкими и нежными, гладят, ласкают, дразнят… Но сейчас цепкие, как птичьи когти, пальцы ковырялись в залитом кровью боку.
Баклавский только пучил глаза, когда игла входила в край раны, когда шершавая нить бесконечно тянулась сквозь его плоть, стежок за стежком стягивая сочащийся сукровицей разрез. Девушка штопала бок инспектора в полутьме, запрокинув голову, лишь кончиками пальцев изредка проверяя, как идет работа. Вытерпеть можно все, но до чего же страшно видеть эти мутные белки, закатившиеся глаза, подрагивающие ноздри молодой плетельщицы!