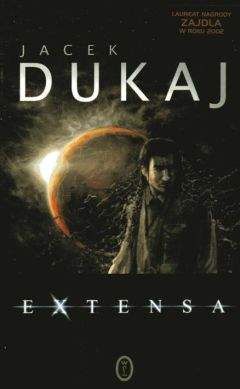Тот отодвинулся, но всего лишь на расстояние вытянутой руки. Сусанна не могла оторвать от него взгляда. Безымянный подмигнул ей, только тогда она как-то пришла в себя.
— Что ты, собственно хочешь сделать? Папа?
— Экстенсу ты не отделишь, это невозможно, — сказал Безымянный еще до того, как я успел ответить. — Ты хотел подобным образом заразить всех жителей Края? Не получится. Репрозиум не кружит у тебя в крови, он угнездился глубоко в теле, в основном — в мозгу. Даже если бы тебя съели — все равно, трансфер подобным образом не совершишь. Только мы можем тебя разделить.
Я оскалил зубы.
— М-м-мой искуситель, — пояснил я Сусанне.
Та перевела взгляд с ножа на свое и мое запястье, снова назад.
— Ты ему веришь?
— Он верит, верит, — заверил Безымянный.
Я бросился на него, резанув по горлу. Тот даже не пошевелился, позволив металлу войти в тело. Брызнула кровь, запятнав идеально чистую до сих пор сорочку. Он поднес к шее свернутую лодочкой ладонь, собрал парящую в утренней прохладе кровь. Та перестала течь из раны; тогда выпил, откинув голову назад и глядя на нас из-под опущенных век.
— Во мне ничего не гибнет, если я того не захочу, — сказал он. — Ничего не распадается. Единственная энтропия, имеющая к нам доступ, это энтропия информации, а она служит нам. Можешь завернуться в любую форму. Хочешь быть человеком? Пожалуйста! Или предпочтешь планетную систему? Внутри себя.
Меня постепенно охватывало отчаяние, я уже не видел какого-либо выхода из создавшейся ловушки. Даже нападение на Безымянного было взрывом слепого отчаяния.
Я повернулся к Сусанне.
— Не-не гов-вори. Ничего ем-му… н-г-говор-ри…
Я побежал в конюшню за свежей лошадью. Безымянный оставил меня в покое, но сейчас я видел это как зловещий знак, сигнал осознания его победы.
Не отзывался Он и во время поездки в имение. По сути дела, я понимал, что Их не опередить — ни мыслью, ни действием — но должен был продолжать движение, поддерживать видимость борьбы; отступившись же (и я это чувствовал), раньше или позднее, я сказал бы ему «Да».
Двор был тихий и темный, но, когда я бежал через второй этаж к металлической лестнице, заметил в открытом в сад окне желтый свет, ложащийся длинными прямоугольниками на внутренний дворик. Зато в подвале не было ни малейшего света. Пришлось вернуться за свечой. Пустые стеклянные трубы Органа отбрасывали темно-красные рефлексы ее пламени. Я подошел поближе, чтобы убедиться. Сомнений не оставалось: трубки были опорожнены, несмотря на отсутствие каких-либо заметных отверстий.
Времени они не теряли; и в этом не было никаких чувств. Разве спрашивали они у Бартоломея? У меня хоть спрашивают… Воображение не останавливалось: я почти что видел эти цветные реки освобожденных репрозионных зерен, постепенно расплывающихся в воздухе, поглощаемые Инвольверенцией, врастающих в нее, связанные с Ними в силу репрозионного парадокса комплементарные наборы в ядрах межзвездных зондов расцветают из под их броненосных скорлуп постепенно и неумолимо в бесчисленные экстенсы: в сотне, двух, трех сотнях световых лет от Земли — черные протезы Их тел, Их, которые тел не имеют…
Мне казалось, что я застану Бартоломея в патио, но он, несмотря на сумерки, работал в огороде. Я позвал его, стоя перед освещенными окнами. Он подошел, вытирая руки рукавами рубахи.
— О-орган ви-идел?
— Ммм?
— П-пустой.
Я быстро рассказал ему про шантаж, пропуская наиболее сложные в произнесении слова.
— Похоже, у тебя нет выбора, — резюмировал Бартоломей, присев на одном из плетеных стульев.
— Он-ни сл-лушают.
— Знаю.
— У т-тебя уж-же были?
— Нет. — Он пожал плечами. — А зачем? Отчет я составил, им известно, что посредством моей экстенсы сконтактировать с какой-либо Инвольверенцией Чужих они не смогут.
Было уже настолько темно (тучи затянули близящееся к ночи небо), что если бы не свет изнутри дома, я бы вообще не видел его лица; да и так, в основном, я видел лишь тени, а под бровями — черные сливы запавших глазниц. Бартоломей задумчиво крутил ус, и вдруг при виде этого жеста мне захотелось рассмеяться.
Наблюдатель шипел мне на ухо: Соберись, это Истерия, мы же ее не допустим! Я скажу тебе, что надо делать! Слушай только меня!
— Пошли. — Мастер Бартоломей поднялся, потянул меня за плечо. — Ты хоть что-нибудь ел? Выглядишь страшно обессиленным. Все равно, сейчас никуда уже не поедешь. Ну, пошли.
В кухне он засуетился у печи, в холодильнике имелся запас разделанной рыбы, к жарению которой он, умывшись и подвязавшись в поясе старинным кухонным фартуком, приступил с гротескной набожностью. Правда, теперь в моих глазах все обладало гротескными формами; сам факт, что я сидел здесь, в недавно перекрашенной в голубой цвет и ясно освещенной кухне и покорно ждал, возможно, последнего ужина — был настолько абсурдным, что Наблюдателю пришлось стискивать меня железными когтями, но я, все равно, слегка дрожал: губы и пальцы, веки и мышцы ног, угольно-черная бахрома экстенсы и багрово-красный лес мозга на спутнике.
— В Семикратной в последнее время появилась даже форель, и даже берет неплохо, позавчера, на том склоне под вербами, я вздремнул на бережку, и…
— Б-боже!
Бартоломей окинул меня быстрым взглядом, бросив кусок рыбного филе на сковороду, жир громко зашипел.
— Знаю, знаю, несправедливо, и вообще. Но если все так, как ты говоришь, то есть ли у тебя какой-либо выбор? Возьмут тебя, так или иначе, правда? Тогда, чего беспокоиться? Вкус горячей форели — не самое паршивое последнее удовольствие.
Я перепуганно глядел на него, словно на неожиданно открывшегося в своем многолетнем безумии сумасшедшего. Он это говорил серьезно.
— А что? — фыркнул тот, явно заметив мою мину. — А ты думал, как? — что можешь Им воспротивиться? Противостоять Им?
Я не отвечал.
— Я глядел, как они в вас это внушают, — продолжал Бартоломей, повернувшись ко мне спиной, — поколение за поколением, с самых малых лет, ничего уже не объясняя и не отдавая непосредственных приказов, но в скрытых предпосылках слов и поведений, как вещи, вроде бы, очевидные; вы сами это себе внушали. Ту гордыню и чувство превосходства, и презрение к Ним, и уверенность, абсолютно религиозного толка, в какой-то исторической миссии. А ты ведь даже не знаешь, кем Они являются; хотя у меня в библиотеке имеются книги по истории Инвольверенции. Так что же говорить о других? Вы уже сводите все это на уровень мифа, семейной байки о привидениях и духах. Так ведь и члены Совета тоже не взялись ниоткуда, они воспитывались точно так же следуют тем же предрассудкам и, видимо, точно так же ведут себя во время переговоров в Крипте. Я прав?