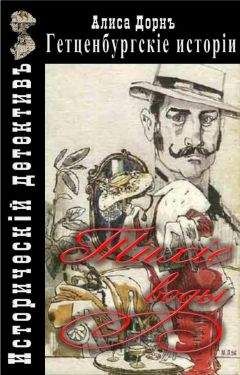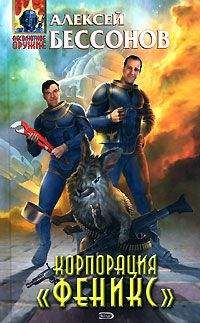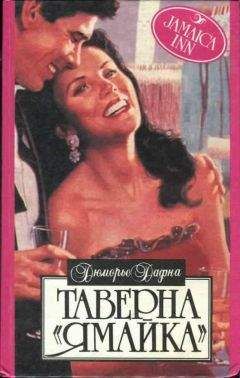— Что?
— Нужно гнездо, птица покажет! Покажет, где гнездо!
— Да мне и не заказывали гнездо, Уля. Разве что... птенца тоже нелегко довезти, впрочем.
— Тебе не нужно гнездо? — изумленно спросила Уля, закатившееся солнце продолжало страшно и неестественно полыхать в ее черных глазах. — Зачем же врал? Значит, ты ищешь камни? Как искали те, мертвые?
— Какие мертвые? Какие камни? Да что вы все твердите одно и то же!
— Страшные камни, камни-убийцы. Те, что молчат, лежат и убивают.
— Нет, — сказал он сердито, — ничего я знать не знаю Ни про какие камни-убийцы. Я ищу животных. Искал. Тьфу ты!
— Тогда пошли, найдем гнездо.
Опять двадцать пять. Разговор пошел по кругу; впрочем, от сумасшедшей чего ждать? Хуже всего было то, что и в своей собственной нормальности он уже не был уверен. Что здесь творится такое, что сводит людей с ума?
— Уля, — сказал он проникновенно, — ну его, это гнездо. Лучше давай выбираться отсюда. Ты говорила, тут есть вода. Наберем воды и пойдем. Ночью, по холодку. Где вообще ближайший населенный пункт?
Уля как-то странно замычала, неразборчиво, словно сжимала зубами тряпку.
Он в ужасе взглянул на нее: бледное пятно лица плавало в наступивших сумерках, словно воздушный шарик. Она бессмысленно таращилась, пытаясь что-то выговорить, и он, проследив направление ее взгляда, тоже окаменел.
То, что пряталось за камнем, теперь стояло перед ними, пошатываясь на четырех лапах — влажно и черно блестя в полумраке: глаза, самосветящиеся бледным молочным светом, выкачены, как два мутных рыбьих пузыря...
— Это... — Он понимал, что нужно стрелять, но не мог заставить себя пошевелиться. — О господи!
«От страха ночного и от стрелы, летящей днем», — неожиданно всплыло в памяти, а он и думать забыл, что помнит.
Зверь стоял, покачиваясь на высоких ногах, потом медленно припал к земле. Все движения его были замедлены, словно он двигался в воде, но не оставляли сомнения в намерениях животного. Уля взвизгнула и бросилась прочь, слепо, не разбирая дороги, он, сбросив наваждение, сумел наконец преодолеть столбняк, подхватил ружье и выстрелил — бессознательно, поскольку разум его все еще не в состоянии был осознать происходящее. Вспышка на миг выхватила из темноты алое влажное мясо морды, белые глаза без век, оголенные до корней острые зубы.
Отдача ударила в плечо, одновременно выстрел отбросил нечто, заскулившее и перевернувшееся на лапах, и только когда он увидел, как нечто медленно, неуверенно, но упрямо вновь поднимается с земли, он тоже бросился бежать, как утопающий за соломинку, хватаясь за бесполезную «ижевку», которая сейчас только мешала ему в беге. За ним двигался влажный, блестящий сгусток тьмы.
Он петлял между полуразрушенными стенами древних строений, чьи купола сейчас темнели на фоне усыпанного звездами неба, один раз вспугнул большую мягкую сову, которая, гугукнув, нырнула во тьму, черканув ему по лицу пушистым крылом, потом развалины как-то незаметно кончились, пошли низкие холмики, было ни черта не разобрать, но тварь почему-то отстала, и он, стоя под огромным, страшным звездным небом, наконец-то смог осмотреться.
Его окружали низкие холмы, поросшие скудным жестким кустарником, частью полузасыпанные, обрушившиеся сами в себя, с чернеющими провалами, и он понял, что стоит на старом брошенном кладбище. Такие могилы — просто ямы в земле, перекрытые жесткими ветками кустарника и присыпанные сухой землей так, что сверху образуется небольшой холмик, — были ему знакомы: со временем они становились не только прибежищем мертвецов, но жилищем барсуков и лисиц, степных кошек и крупных сов...
Один холм был выше и длиннее других — темный горб на фоне текучего сияния Млечного Пути, и оттуда, из-под него, из черного провала в земле, доносились какие-то звуки.
Он прислушался, по-прежнему держа ладонь на остывающем стволе ружья. Словно бы шипел и ворчал какой-то зверь, степная кошка, что ли, но потом он разобрал искаженную эхом человечью речь:
— Сюда! Сюда!
Бледное пятно показалось в яме, блеснули глаза — алым, почему алым? — узкая рука, повернутая к нему бледной ладошкой, парила в воздухе, точно огромная ночная бабочка. Он, не смея повернуться спиной к равнодушным, облитым звездным светом холмам, боком протиснулся в тесный провал.
— Уля? — шепотом спросил он темноту.
— Он сюда не пойдет. Ему нельзя.
— Приятно это слышать, — сказал он устало.
— Не убил его. — В темноте он слышал ее тяжелое, со всхлипом, дыхание. — Зачем? Я говорила, надо убить!
— А его вообще... — от нелепости произнесенного горло напряглось, и голос получился чужим, — можно убить?
Он не видел, как она пожала плечами, но черная коса, скользнув, прошуршала по шелку халата.
— Можно. Если серебром. Или если проткнуть сердце острой палкой. Или отрезать голову. Тогда можно. Тогда хорошо.
— Серебром, — сказал он, — хм... понятно. То есть... — Господи, что он такое говорит!
— А это вообще кто, Уля?
— Зверь, — ее дыхание, точно бабочка, трепетало у него на щеке, — человек. Зверь. Все сразу. Чужак.
— Чужак?
— У нас таких давно не было. Старики рассказывали. Приходят с севера. Чужаки. Мы их боимся.
Наверное, сплю, подумал он, только сон какой-то вязкий. Хочешь выбраться, а не можешь.
— Отдали меня ему, чтобы был доволен. Чтобы никого не трогал. Я боялась, плакала, все равно отдали. Я два раза убегала, он меня находил. Всегда находил. Бил после. Крепко. А ты сильный. Ты меня увезешь. Увезешь ведь?
Если это сон, подумал он, тогда ладно. Тогда можно.
— Увезу, — сказал он.
Он обнял ее одной рукой, второй по-прежнему придерживал ружье, поставив его между колен. Она прильнула к нему, она была горячая и по-прежнему пахла раскаленным на солнце металлом и горьким маслом. Грудь у нее была маленькая, точно у мальчика. А целоваться она не умела. Совсем.
— Ты будешь большим, — бормотала она горячечно, — будешь сильным. Теперь ничего. Не страшно. Мы уже совсем рядом.
Совсем рядом с чем? — хотел спросить он, но не спросил.
Темнота обволакивала их, как сухое войлочное одеяло, она и пахла, как сухое войлочное одеяло, — пылью, горячей шерстью, чуть-чуть мышиным пометом.
Вверху, в проломе виднелось небо. Отсюда казалось, что звезд неимоверно много, некоторые из них были круглые, точно плоды, некоторые словно бы шевелились, точно амебы или инфузории, а некоторые сверкали, как огни на елке, переливаясь синим, красным, желтым... Он никогда не видел такого звездного неба.
Он пошевелился: в яме — в сущности, могиле — оказалось неожиданно просторно, он смог распрямить спину и даже привстать с колен, не касаясь при этом ни стен, ни земляного свода. Теперь он вспомнил, что и насыпь над могилой была гораздо выше и длиннее, чем над остальными, раза в два, а то и больше.