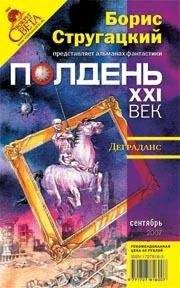«Но как вас понимать? Перед нами результаты насилия!»
Домский наклонил голову. Он даже прикрыл глаза ладонью.
«А почему, скажите мне, все эти люди пришли на выставку фон Хагенса?»
«Какая разница? Пришли и пришли. Так у них получилось. Могли пойти и на Шилова, и в ресторан».
«О нет! Случайных людей на таких выставках не бывает. Каждый пришел в галерею „У Фабиана Григорьевича по какой-то своей совершенно определенной причине. Не удивлюсь, если их привел туда запах смерти. Понимаете, о чем я?“
«Честно говоря, не очень».
Домский недовольно поджал губы.
«Хорошо, упрощу свою мысль. Отвечу на свой же вопрос, поскольку вы не хотите работать мозгами. Каждый из тех, кто приходит на выставку фон Хагенса… – он сделал выразительную паузу, – является потенциальным самоубийцей».
«Вы полагаете?» – изумленно протянул ведущий.
«Уверен! Других толкований просто не может быть. Разве мы не живем постоянно с этой сладкой мыслью уйти, наконец, из этого мира, оставить юдоль скорби? Просто далеко не всем хватает смелости воплотить свою мысль в жизнь».
«Но почему вы так думаете?»
«Да потому, что только нам, людям, дано осознавать свою ужасную смертность. На нас постоянно воздействуют самые жестокие обстоятельства. Рано или поздно каждый из нас оказывается в ситуации, когда приходится спрашивать себя: а какой смысл тянуть? не пора ли? какой смысл и дальше надеяться? – когда один-единственный выстрел или глоток яда может решить проблемы. И, заметьте, – торжествующе блеснул глазами Домский, – это может быть прямо не связано с откровенно неразрешимыми проблемами или с некоей неизлечимой болезнью. За желанием шагнуть за грань может скрываться всего лишь самое обыкновенное человеческое любопытство. Да, да! Неужели вам, например, никогда не хотелось узнать, что там, на той стороне?»
«Может, и хотелось, но я никогда не думал о самоубийстве».
«Это же одно и то же! – воскликнул с укором Домский. – Вам нравится то, что делает Шивцов?»
«Право, не знаю…»
«Ответьте, как можете».
«Ну, в свете ваших объяснений… Может, мне и интересны некоторые идеи, вкладываемые Виктором Шивцовым в его деятельность… Если конечно, это можно назвать деятельностью… – ведущий чуть ли не с испугом обернулся на зеленоватое изображение мумий и мертвого, прислоненного к ней человека. – Но я не могу счесть приемлемыми его методы…»
«Да почему?»
«Да потому что он… он работает… с живыми людьми!».
«А разве другие этого не делают? Разве политики не используют живых людей исключительно в своих корыстных целях? Разве генералы не посылают миллионы солдат на верную смерть, выстраивая чудовищные инсталляции под Аустерлицем, под Ватерлоо, под Сталинградом? Но что-то я не слышал, чтобы Наполеона, Веллингтона или маршала Жукова называли просто убийцами. Сталин, Рузвельт, Мао…»
«Они действовали, исходя из государственных интересов».
«Тот же довод приводили на Нюренбергском процессе адвокаты нацистских преступников».
«Хорошо, не буду с вами спорить».
«Это правильно. Не спорьте».
«Но еще один вопрос».
«Пожалуйста».
«Вы что, правда считаете, что цель, поставленная Виктором Шивцовым, оправдывает его действия?»
«Не пойму, о чем вы?»
«Как о чем? Виктор Шивцов убил двух заложников».
«Опомнитесь! Тьфу на вас! Что вы такое говорите, он не убивал никого!»
«Как это не убивал? Я сам видел. Миллионы телезрителей видели эти убийства».
«Не будьте обывателем. Вы работаете с многомиллионной аудиторией. Больше гражданского мужества! Вам посчастливилось увидеть не убийства, а редчайший акт творчества! Повторяю, не низкий акт банального убийства удалось вам увидеть, а акт творчества. Гениальный трэш-реалист Виктор Шивцов открыл новую изобразительную форму. Он нашел новый сложный и неподатливый и в то же время весьма гибкий материал. Он нашел способ максимально драматизировать перформансы. Он заставил нас не только сопереживать происходящему, но и работать мозгами! Где же тут состав преступления?»
«Боюсь, правоохранительные органы смотрят на происходящее иначе».
«И правильно. На то они и правоохранительные органы, – усмехнулся Домский, – чтобы выискивать преступление даже там, где его нет. Работа такая… – Домский широко улыбнулся. – Я это говорю в том смысле, что мне лично не приходилось встречать ни одного работника правоохранительных органов, который бы понимал что-нибудь в современном искусстве».
«…дамы и господа…»
Лицо Калинина сияло.
«…художник-концептуалист, мастер трэш-реализма…»
На экране появлялся хмурый Шивцов, но его занимали другие мысли.
«…готов ответить на ваши вопросы…»
Пауза необходима. Калинин выключил телефон.
Дурак тот, кто думает, что работа журналиста – легкий хлеб. Работа журналиста – это, прежде всего, постоянное напряжение. Острое нервное напряжение. В процессе сложного интервью выматываешься так, будто кирпичи грузил. Да еще обстановка соответствует не всегда. Ну, в самом деле… Калинин с отвращением оглядел сбившихся в кучки заложников… Никто уже не следит ни за одеждой, ни за внешним видом… Того и гляди, взбунтуются…
«Если бы не я, – сказал он Шивцову, присаживаясь рядом на корточки, – нас бы давно спихнули в бассейн».
И ткнул концептуалиста локтем:
«Тобою интересуются».
«Кто?» – без интереса спросил Шивцов.
«Девушки. Я же говорил!»
Он открыл дисплей мобильника.
Нежная, смеющаяся, совсем девчачья мордочка. Надпись через обнаженную грудь, да, шоколадной краской прямо по телу: «Обожаю искусство!» Она что-то говорила, наверное, задавала вопрос, но Калинин не включал звук. Собирал записи. Другая девица оказалась блондинкой, ее тоже что-то интересовало. За нею явилась длинноногая голая шатенка, коротко постриженная в невероятном нежном развороте. Этой и писать ничего не нужно: все чувства выражены летящей рукой, движением сливочного бедра. Блондинки, брюнетки, шатенки, рыжие, какая-то цветная бестия в тропической накидке, полная домохозяйка в откровенном халатике.
«Мое сердце с вами!»
«Свободу чистому искусству!»
«Трэш-реализм – враг пошлости!»
Шивцов смотрел на девушек и женщин с недоумением.
«Чего они хотят?»
«Тебя и твоей славы».
«Они что, совсем чокнутые?»
«Знаменитому художнику нужно привыкать к популярности…»
Калинин оглянулся и увидел Ксюшу. То ли в обмороке она была, то ли просто забылась в минутном сне на груди все того же измазанного кровью охранника. Дура! Само ее присутствие мешало Калинину.