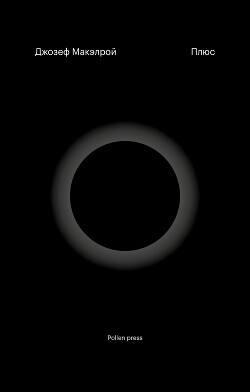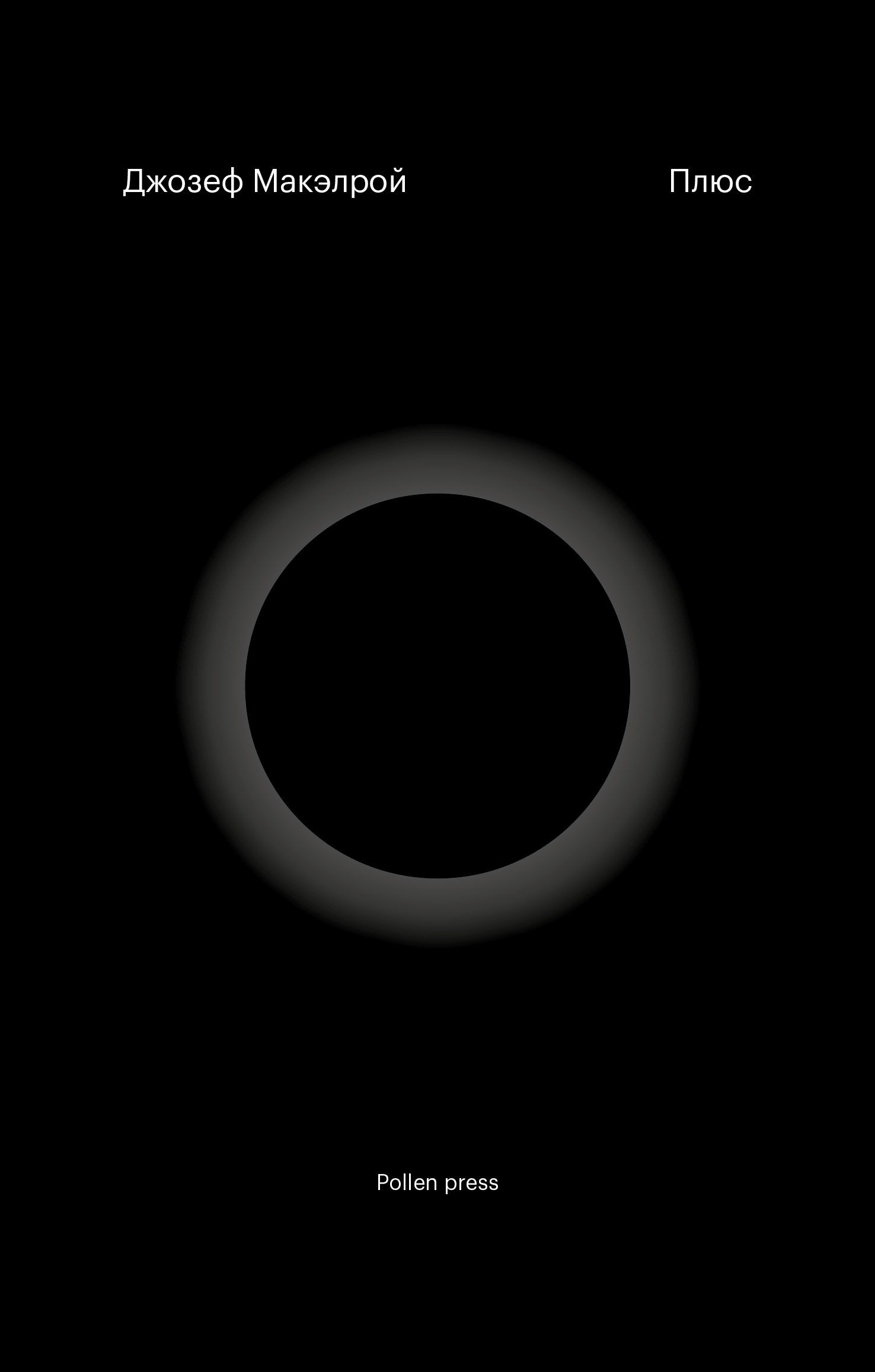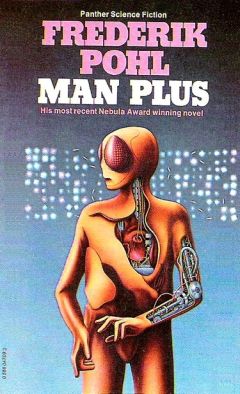Он смотрел больше, и в конце концов не видел, поскольку зрительные мембраны расширились. Поэтому он решил, что столь пристальное смотрение уже сделало центры в каждой из них, как насаживающий электрод, и каждый центр расширился.
Нет: то есть, он заглянул в плоть движения и эластичные прицельные сетки клеток, и еще ближе: так что в проход вышла новая разделенная цель, и он обнаружил, что падает, словно мог видеть будущее, так пристально глядя на плоть клеточных стенок; и в тот миг он понял, что падение как зажимание в своем стремительном пике, как прежде густо было давление, и он чувствовал себя вывернутым и выдернутым обратно на конец эластичного рукава или сухожилия глазной мышцы, которое он затем не станет искать.
И боль ему напомнила.
Но о чем?
Что он был внутри ванны из эластика. Сделанной для него эластичной кожи. И боль напомнила ему об обвале-обрушении и о себе самом — хотя насчет себя он не был уверен и выяснить не пытался.
Ему напомнили об обвале-обрушении, растягивании над пустотой, которой он не знал, пока ее не пересек и не увидел, что оживил ее, чтобы наполнить, поэтому он увидел то, чего не смог раньше сделать, когда устремлял свой микровзор так глубоко в свою субстанцию, что за глубиной добрался до потенциала. Увидел, что не мог тогда сделать. Увидел, потому что манящий проход предложил ему впасть во всю последнюю возможность. Увидел еще и потому, что части здесь в этой капсуле, части наколотые на его взор, части, чье вещество было зажжено его косами и излучением его Солнца, очистили его от себя. В микровзоре было больше силы, чем ему ведомо. Удерживала его. Смуглые пальцы с золотым кольцом, очистившие рукав, чтобы указать на точку. Шприц. Но здесь в пространстве только он мог выполнить эту работу, больше никто.
Его работа — проникнуть: он должен (он видел, что должен) сказать, что сделал, — очистить и проникнуть сквозь микровзор к таким своим мельчайшим недрам, что он отвернулся в сторону от всего того, чем теперь был.
Хотел ли он это так видеть?
Глядя, он не знал, что сказать. Он больше, чем просто растянул и проткнул эластичную кожу, которую Проект разработал, чтобы его завернуть; он вывернул ее из себя. Глянец, что у него теперь был, не был той кожей, которую Проект ПС подогнал под него. Та кожа в нем расплавилась.
Глядя, он не знал, что сказать обо всем том, чем, как он видел, он был, чьим видением он также был.
Где однажды были четыре бредения или ложношири, буротвестни или морфогены, деление сделало многих, а многих одним. Увидеть он должен был лишь то, что его единственным твердым центром было то, что его огибало: сфера капсулы. Эта дуга была присоединена к кожуху растительной трубки, под которой некогда был мозг с двумя проводами с толстой серебряной изоляцией, ведущими из продолговатой коробки, закрепленной вверху у переборки капсулы, напротив окна, рядом с которым Имп Плюс сейчас пытался расположиться и ограничить свой взор. Что такое бредения, ложношири, буротвестни, морфогены?
Четыре разновидности его тела и его самого.
Слова, вспоминающее другие слова, но новые слова для того, чем он стал.
Он наблюдал, как его обода смягчались и все вместе поднимались, чтобы держать: но держать было нечего, думал он: но как только он это подумал, один огромный обод субстанции взгорбился в несколько овальных удержаний.
Буротвестень с янтарной чешуей подскочил вверх по его существу, в то же время оставив свою нижнюю надставку там, откуда она и пришла; и он увидел что этот буротвестень, у которого были ниспадающие и обхватывающие края и, словно ночная прозрачность ложношири, которым тот однажды был, прыгнул к самой переборке послушать у пульта, откуда выходили сильно обмотанные провода. Пульт управления.
Но если сейчас бредения были одним, что Имп Плюс узнал, спустив морфоген с каждого конца оси, видимой в одной из частей бредения, что бредение однажды было многим, и в некотором смысле по-прежнему был. Многим чем? Он чувствовал, что не мог сказать, поскольку видеть было нуждой или следствием сказать: многими портами. Но три, четыре или много бредения превратились в их собственное движение.
Ему нужно было видеть свое существо только таким, каким оно было сейчас; поскольку в подъеме и падении его стекловидного глянца мяса, производя волну вокруг или потом через и обратно в каждом контуре, спирали или скосе текущего прерывания и множества скосов, каких он пока не знал, пока потом в падении или подъеме не узнал, что уже был готов, он обнаружил себя полным того, что было раньше.
То есть, где поле нашло способ стать досягаемостью, или досягаемость нашла способ узнать свое отличие от переборки, кожи или излучения, которого оно касался, и тем самым склонил ось досягаемости поперек себя, чтобы пойти в стороны и влиться в предел достижения, так и предел достижения вдруг стал подвержен разрыву и взятию, и бытию своей собственной соседней плазмой, он увидел, что вспоминание об обвальном жжении и трещине крови не склонили его видеть.
Он видел предыдущее склонение, какое достаточно присутствовало, чтобы врасти в себя. И видя это не далеким прошлым — более ранние стягивания и растягивания, темно-красные или бледно-зеленые зыби, больше градиент, чем движение, поворачивание сетей микроорбит поверхности в шелковые пленки, чтобы видеть Солнце, однако облачные шелка, чтобы его замедлить, — Имп Плюс должен склониться прочь от момента тех ближних воспоминаний; поскольку они ему предлагали соскользнуть прямо вниз по оси расстояния во все очертания Земли, которая теперь не могла быть его, и давили его в словах, которые ему бросали, тени того, что он видел и кем был, и что он подразумевал сейчас вместо того, чтобы видеть и быть, здесь в себе — то есть вдали от Земли.
Поэтому конечности посредством склонения распростерлись к другим вбок и не были конечностями. Поэтому соединенные так и, значит, мнимокажущиеся тела видели свой путь ясно, чтобы затем распространить свои мембраны через все тело, какое, казалось тогда, считало себя равноудаленным от всей капсулы. Поэтому больше могло казаться меньше в досягаемости содвижения — чтобы лишь потом разбить свой ответ Солнечному излучению на все длины волны: так что вдоль мембранных длинных красных, кратких синих и фиолетовых или средних зеленых, но, страннее, также неизвестных средних золотых, которые тоже были повсюду, одна быстрота взора тем самым делила, выдавала все частоты.
Но частоты чего, он не был уверен.
Малиновая вена пришла и ушла так быстро, что начертила спираль, и так быстро, что кажущаяся спираль выглядела как две, и другие в синхронных полях или кажущихся хвостов брошенной вперед необходимости приблизились к тому, что тогда, казалось правильно приблизилось. То был не столько рост, сколько движение. Не столько подвижка, сколько склонение градиента.
Формы дыханий менялись круг за кругом, но продолжались, продолжали меняться.
Он не добавлял к себе, как раньше.
Разве что обнаружил, что когда дыхание крупнее и пересыщенная перепонка среди многих проходящих конечностей увенчивала дугу капсульной переборки, чтобы почуять въедливое общество их мысли, сокращение всегда было возможно, что было таким же ростом, как и все те добавления.
Которые пропали с обвалом-обрушением и венами-вспышками малинового.
Но сейчас с большим изменением, чем добавлением, и большим движением, чем изменением, малиновый продолжался в ярком сердце позднего дня, который был многими днями, и теперь, когда Имп Плюс пришел к мысли об этом, малиновый погас ночью, когда настал холод, или Центр сказал, что он настал. Но что было холодом?
Борт — единственный борт с новыми порами сырости — единственный борт на данный момент (побыв крылом, шеей, пальцем носа) — свернутая сейчас вокруг одной растительной грядки, приняв продолговатые углы кожуха. И в тот миг бурой тени Имп Плюс увидел дрожь скрутки под млечной оранжевой мембраной и почувствовал во всем своем существе частичную утрату Солнца растительной грядкой. Но он чувствовал это в уютном завитке дрожащего сладкого запаха скрутки, которая была смехом, как он помнил, вверх по позвоночнику, которого у него не было.