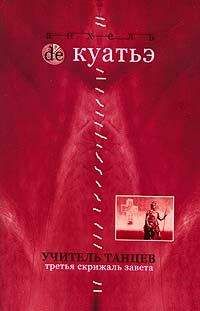Женщина все смотрела и смотрела на Эдгара, и он видел, что в ее милых карих глазах возникает, крепнет и исчезает сначала изумление... Потом сомнение... Недоверие... Уверенность. Уверенность не исчезла. Радость и тревога. Ожидание и легкая грусть. П о н и м а н и е.
- Я посмотрю...
Он, наконец, справился со своим голосом и сумел выговорить эти два слова, и миловидная худенькая женщина с каштановыми волосами и бровями "домиком" молча кивнула и осталась стоять, прижимая к груди скалку, и провожая его долгим-долгим взглядом.
Он прошел сначала в комнату слева, где до потолка высились желтые застекленные шкафы с книгами, стоял письменный стол, и на столе лампа с еще не разбитым зеленым абажуром; потом в комнату с диваном, а из нее - в комнату с двумя детскими кроватками. Одна кроватка была аккуратно застелена, над ней висел коврик с мишками среди больших мухоморов, а на другой спал ребенок. Ребенку было не меньше двух и не больше трех, он спал, уткнувшись головой в настенный коврик, сжав кулачки, и чуть слышно посапывая во сне. Рядом с кроваткой пристроилась в углу этажерка и на ней, на белой узорчатой салфетке, стояли мраморные белые слоники - большой, меньше и меньше, - которые призваны были принести много-много счастья на своих гладких мраморных спинах.
Ребенок безмятежно спал и еще ничего не знал об Эдгаре, остановившемся в двух шагах от кроватки, так близко - и так бесконечно далеко... У ребенка была впереди целая жизнь.
Эдгар хотел что-нибудь подарить ему, но в карманах не нашлось ничего подходящего. И в конце концов, Эдгар дарил ему себя, хотя и сомневался, хорош ли т а к о й подарок.
У ребенка не было выбора.
Эдгар стоял и смотрел, смотрел на спящего ребенка, и ребенок беспокойно зашевелился во сне, чмокнул губами, и Эдгар поспешно вышел, и вновь остановился в прихожей, где ждала его худенькая миловидная женщина в красном халате, женщина с каштановыми волосами, зачесанными назад и кружком заплетенными на затылке, женщина с тонким лицом, женщина с карими, немного грустными глазами, женщина с бровями "домиком", женщина, которая умела так хорошо смеяться, женщина, которая обладала изумительным даром с л у ш а т ь и с л ы ш а т ь других, женщина, вынесшая на своих хрупких плечах тяжелую ношу, женщина, имевшая еще один, не менее изумительный дар, - дар о б щ е н и я...
Она с нежностью смотрела на Эдгара, и молча спрашивала его, и Эдгару так хотелось ответить, что все-все будет хорошо.
И он солгал, солгал, потому что иногда ложь бывает нужнее правды. Не лучше - но н у ж н е е.
- Все будет хорошо, - сказал Эдгар кареглазой женщине, и эти же слова он повторил ей через много-много лет, в другом месте и при совсем других обстоятельствах, но, тем не менее, повторил, опять солгав, потому что и через много лет был уверен в том, что иногда ложь бывает нужнее правды.
Не лучше, но - нужнее.
И еще иногда ложь перестает быть ложью и превращается в правду. Не только в сказках. Наяву. В том мире, в котором мы живем.
- Все будет хорошо, - сказал Эдгар и улыбнулся, и миловидная женщина тоже улыбнулась, улыбнулась успокоенно, прислушалась к шипению сковородки и бросилась на кухню.
- Все будет хорошо, - сказал Эдгар и закрыл за собой дверь.
Он был уверен в этом.
И двор исчез, и на его место пришла пустота. Эдгар пребывал в пустоте, в той самой пустоте, в какой не далее, как утром, брели двое, направляясь то ли к троллейбусной остановке, то ли на прогулку среди колец Сатурна, то ли куда-то там еще.
Через некоторое время (если бывает время в пустоте) он обнаружил подле себя Юдифь. Юдифь была все в том же знаменитом платье.
- Я ищу Эльзору, - сказала Юдифь.
- Я писал это по ночам, - ответил Эдгар.
- Ночью пишется лучше, чем днем, - сказала Юдифь.
- Если есть о чем писать, - ответил Эдгар.
- Эльзора... Там пишут все.
- А кто же читает?
- Там пишут для себя.
- А нужно ли это?
- Разговор с собой. Собственное "я" не забывается, не исчезает, остается жить хотя бы на бумаге.
- А нужно ли это? - повторил Эдгар.
- Разговор с собой необходим. Каждый пишет для себя, а ведь "пишу, творю - значит, существую".
- А нужно ли это?
- Нужно. Очень нужно тому, кто пишет. Нужно для себя. Писать, не притворяясь, не стараясь изобразить чувства, которые не испытал.
Писать только правду. Для себя. Быть честным с собой до конца.
Писать, когда хочется, что хочется и как хочется, но только д л я с е б я.
- Нужно ли это?..
- Ты зануда, милый, - нежно сказала Юдифь. - Ты меланхолик, нытик, весьма склонен к рефлексии и вечно витаешь в каких-то перпендикулярных мирах.
- Возможно. Пусть я не хватаю звезд с небес и довольно трезв в оценке собственных способностей, но тем не менее, мне кажется, я все-таки чуть ближе к небу, чем к земле. Во всяком случае, мне чертовски хочется в это верить.
- Вот и верь, милый. Верь! И пиши для себя, пиши, если хочется.
Только найди Необходимые Вещи.
- Постараюсь.
- До встречи, - промолвила Юдифь и исчезла.
Потом, естественно, явился Серый Человек в обнимку с Двойником, густо дыша "Изабеллой", и Эдгар счел за благо покинуть пустоту, потому что в ней становилось совсем не пусто.
*
Он стоял, облокотившись на ограду, рядом с перекрестком, взирал на бегущие мимо троллейбусы, автобусы и легковые автомобили, и ему было грустно от осознания того неизбежного и не поддающегося изменению факта, что все его предки, как и предки всех других людей, он сам и все человечество, а также его потомки и потомки всех других, жили, живут и будут жить в галактическом декабре, потому что именно такую позицию занимало, занимает и будет еще долго занимать наше ординарное светило по отношению к центру Галактики. И в этом была безысходность, которая удручала Эдгара.
Хотя, возможно, он думал совсем о другом. Троллейбусы, автобусы и легковые автомобили бежали под отполированной ветрами чашей небосвода. Прогрело солнце чашу небосвода, она отполирована ветрами, в ней перекатывается гул громов и в синеве клубятся облака, неся небесные живительные воды. В нерукотворном этом храме порою, доносясь издалека, звучат чуть слышно голоса иных миров.
Нет, это звучали не голоса иных миров. Это взлетал под чашу небосвода шум земных моторов, взлетал - и слабым эхом возвращался. И даже если бы голоса иных миров вдруг прорвались под чашу, мы не услышали бы их в шуме наших транспортных средств.
Но то, что за чашей, - молчит. Упорно молчит. "Меня ужасает вечное безмолвие этих пространств", - с отчаянием восклицал Паскаль. Молчит - или же говорит на языке, который не слышен нам, а, может быть, непонятен нам. Или посылает весточки, которые мы расцениваем не так. В совсем другой плоскости. Звездной бурей заброшен из вселенских глубин от далекого дома у зеленой реки, и неведомо - кто он? Почему он один? На кого же похож он? Много ль их, вот таких?.. Он лежит без движенья в белой пене снегов. Может, просто мишенью были мы для него? Очертания зыбки. Снег подтаял, осел. Жаль, что лишь по ошибке он сюда залетел.