— Разве? — улыбнулся Милов. — Я понимаю еще, если бы вы сказали — из России…
— Ну, это уж само собой разумеется! Но вся эта машинизация, ведшая к уничтожению природы, а значит — и нас с вами… Ведь порядок — это гармония, человек всегда должен был жить в гармонии с природой, но вы это забыли — хотя был ведь у вас Торо, но вы им, пренебрегли, не прислушались… А то, в чего мы с вами сейчас участвуем — отнюдь не беспорядки, напротив, это восстановление исконного порядка, возвращение к нормальной жизни, а следовательно, и к нормальной морали, этике, уважению к человеку…
— Как-то это не вяжется с трупами на улицах — вы не считаете?
— Разумеется, это прискорбно. Крайне прискорбно. Но ведь согласитесь: гниющую ветвь отсекают, хотя на ней может сохраниться и несколько еще здоровых листочков.
— Возврат к нормальной жизни, — проговорил Милов. — В таком случае те, кто ведет нас, вероятно, — люди высоких душевных качеств, а не просто защитники природы?
— Ну конечно же! Растабелл…
— А Мещерски? Рикс? Вы простите мне мое невежество, но я и в самом деле, горячо сочувствуя идее спасения мира, не очень осведомлен о тех, кто возглавляет движение здесь, в вашей прекрасной стране.
Они молча прошагали с минуту, прежде чем сосед ответил:
— Я понимаю, на что вы намекаете. Вы хотите сказать, что во главе движения встали, кроме чистых душ, подобных Растабеллу, еще и некоторые политиканы, а также деловые люди. Конечно, это несколько омрачает… Но согласитесь, что всякое дело должны совершать специалисты, иначе оно обречено на провал. Мы, друзья и защитники природы, к сожалению, не всегда обладаем нужными способностями, и еще менее — опытом. Мы умеем насаждать сады и леса, поверьте. Но для этого нам нужно создать такую возможность, сами мы создать ее не умеем, увы. Ведь моментально возникает сложнейший узел проблем, чье разрешение доступно лишь профессионалам. Да, разумеется, от нас не укрылось, что на первый план в движении выходят люди действия. Но мы не препятствовали, потому что они несли наши знамена, а не наоборот. Они делают необходимое дело: расчищают место, на котором потом будет посажен — и вырастет — зеленый, шумящий, животворящий лес. И вот тогда-то настанет наша пора!
— То есть люди действия отойдут в сторону и предоставят руководить вам?
— Разумеется, я не имел в виду себя лично, я всего лишь нотариус… Но, конечно, главную роль станут играть те, кто сумеет организовать восстановление природы и жизнь на новых, разумных основах.
— Ученые? Однако, разве не против них мы с вами выступаем сейчас?
— Ну, не поголовно же против всех… Ботаников, зоологов и тому подобных мы стараемся сохранить.
— И это удается?
— Ну, знаете, — сказал сосед, чуть нервничая; прежде чем продолжить, он попытался пристроить ружье на плече поудобнее: рука, видимо, устала и вместе с прикладом сползала вниз. — Конечно, что-то могло получиться не так… Люди разгорячены, разгневаны, чаша терпения переполнилась… Все же мы стараемся.
— Значит, руководить будут ботаники с зоологами?
— Да! И мы создадим общество гармонии с миром.
— А нынешние отойдут к сторону?
— Но как же они смогут не сделать этого? — удивился нотариус. — Мы живем в демократической стране, пусть наша демократия и не так стара, как некоторые другие… Однако когда мы, народ, сочтем, что пришла пора, — мы провозгласим это, и им не останется ничего другого, как отойти в сторону и выполнять чисто служебные функции.
— Да, — сказал Милов. — Вы жили в демократической стране — пусть и не самой, но все же… И у вас никогда не было фашизма какой, бы то ни было расцветки. А раз вы не знаете, не испытали, что это такое…
— Простите, что вы имеете в виду?
Тут раздался громкий оклик — даже не разобрав слов, Милов по одной лишь интонации понял, что сказано было нечто вроде „Разговорчики в строю!“ Сосед, видимо, понял больше и умолк.
— А куда нас ведут? — все же спросил Милов, понизив голос.
— Разговаривать запрещено, — еще тише ответил сосед.
Они зашагали молча. Но третий в шеренге, все время топавший с мрачно-сосредоточенным видом, — вооружен он был автоматом, как и Милов, — наверное, тоже хоть что-то понимал по-английски, теперь вдруг заговорил, громко и сердито, словно ему на запрещение было наплевать. Милов сосредоточился, чтобы понять, и в какой-то степени это стало ему удаваться.
— Ну, и что, — говорил второй сосед, — если наши командиры потом не захотят отдать власть? Они умеют руководить, они сохранят и страну, и нас, и вырвут с корнем все сорное семя. Они — сила, а что смогли ваши либералы и демократы? Довели до ручки, вот и пришлось взяться за оружие!
Милов с усилием подобрал слова для ответа:
— А вы понимаете, что есть фашизм? Что фашизм неизбежно уничтожает людей: некоторых — физически, но всех — морально?
— Не всякую силу надо называть фашизмом, — убежденно сказал автоматчик, — и не всякое стремление к чистоте нации — расизмом. Все это — история, это давно прошло. Но власть должна не только издавать законы, но и принуждать к их выполнению, и должна строго карать нарушителей — иначе трубы будут вечно дымить! И если сохранять законы можно только при помощи силы, то пусть будет жестокость и пусть будет сила!
Кажется, убежденность автоматически заразила и нотариуса, все более изнемогавшего под тяжестью своей реликвии, так что он не удержался, несмотря на страх перед запретом:
— Да! — подтвердил он. — Природу уничтожали силой — и лишь при помощи силы можно ее восстановить!
„Да, — подумал Милов, когда после второго, еще более свирепого окрика они замолчали окончательно, — да, все просто, и не опровергнешь. Все логично: надо обуздать науку и технику, чтобы сохранить планету и самих себя, а чтобы обуздать — необходима сила, и вот она, сила… Судя по истории, демократия быстро восстанавливается после крушения фашизма, но боюсь, что и фашизм в какой-то из своих форм может не менее быстро восстановиться после крушения демократии — под лозунгом наведения порядка в чем угодно. А ведь при демократии абсолютного порядка всегда и во всем быть не может, чем выше уровень демократии, тем сложнее, а не проще, становится общество вопреки чаяниям утопистов; а в сложной системе возможность какой-то частной неполадки всегда больше. Это фашизм стремится упростить общество: так ему легче править; но сложное демократическое общество всегда содержит какой-то процент любителей железного порядка, прямо-таки машинного, хотя тут сейчас именно против машин и выступают; они согласны жить и поступать от и до, но чтобы и все остальные жили и поступали точно так же; и что за беда, что тем самым пресечется всякое развитие? Оно им и ни к чему, оно нарушает привычки, традиции, которые — хороши они или плохи — со временем, им как бы освященные, начинают казаться идеальными. Потому золотой век всегда и относится к прошлому… — Тут мысль Милова скакнула в сторону: — Пытались, правда, отнести эпоху высшей пробы и к будущему, и тогда оно действительно блестело и переливалось грандиозным мыльным пузырем. А на самом деле…“
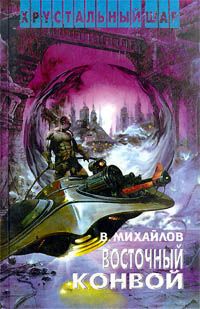
![Владимир Михайлов - Восточный конвой [ Ночь черного хрусталя. Восточный конвой]](https://cdn.my-library.info/books/67336/67336.jpg)



