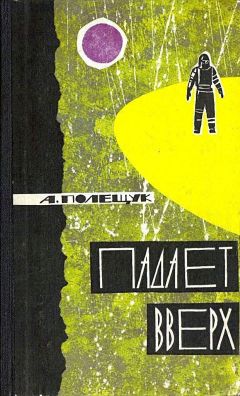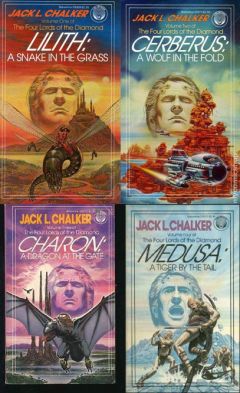— А что за слово ты сказал ему? — спросил визирь. И когда торговец сказал это слово, его тотчас же услышал халиф и расколдовал и себя и сову, которая оказалась принцессой. Но тут Димка заспорил с Шурой, какое именно слово должен был сказать халиф, и они долго спорили, а я сидел как в воду опущенный и думал: «Слово… слово… Одно слово, и ты превращаешься в птицу, лягушку, льва… А' может быть, в слове что-то есть большее, чем само слово, чем тот предмет, который означает это слово?» Я поймал себя на том, что тайна коварного визиря и его помощника торговца была мне 'ближе, чем страдания халифа и совы-принцессы. «Все-таки они враги, — успокаивал я себя. — Эксплуататоры, а колдуны знали свое дело, они были большими учеными, если они были на самом деле».
— Сказка — ложь, да в ней намек! Добрым молодцам урок! — вдруг сказал Шура. — Димка, Димушка, посмотри на Мишу! Он, наверно, решил стать волшебником!
Это, конечно, было случайным совпадением, но я внимательно посмотрел на своих товарищей. Находясь под впечатлением только что рассказанной сказки, я даже подумал: «А что, если они в самом деле волшебники, волшебники, превратившиеся в мальчиков, и хотят, чтобы я стал аистом». Я отогнал эту мысль, попытался улыбнуться, а мои товарищи почувствовали, что со мной что-то неладно, и смотрели на меня во все глаза, всем своим поведением подтверждая мою странную догадку. Теперь я точно знал, что эти двое волшебники и что я сейчас превращусь в большого белого аиста.
Через три дня я очнулся. В комнате был полумрак. Возле меня находилась, моя мать и держала в руке белую тряпочку. Потом поднесла ее к моему лбу, увидела, что я открыл глаза, и сказала:
— Сыночек, Мишенька! Что у тебя болит? Не шевелись, тебе нельзя…
Потом у моей постели собрались врачи. Как сквозь сон я слышал:
— Пришел в себя? Это хорошо. Не расстраивайтесь…
Я пролежал два с половиной месяца. Часто, два-три раза в день, заходили Шура и Дмитрий. Это они подыскали для меня развлечение, единственно возможное для моего «лежачего положения». Из кипы детских книжек я вырезал картинки. Книжек было много, а я все вырезывал и вырезывал, утят и пеликанов, гиппопотамов и слонов, крокодилов и мойдодыров. Потом мне принесли белую бумагу. Я попытался рисовать, но карандаш не держался в руках. Я вырезал по памяти из чистой белой бумаги аиста. Вышло похоже. Потом вырезал крокодила на траве, сделал разрез, поставил его на твердую обложку какой-то книжки.
Я был искренне удивлен, когда и Димка и Шура долго рассматривали моего крокодила, а потом сказали в один голос, что это просто «мировой» крокодил. А Димка добавил, что ему нисколечко не жалко тех книжек, которые я изрезал.
Когда я оправился настолько, что смог ходить по комнате, Димка привел ко мне «талантливейшего человека» и «тоже художника». Это был мальчик моего возраста, с гордо поднятой круглой головой и узенькими плечами. Он показал мне презабавные рисунки. Смело могу сказать, что ничего подобного я больше не видел. Какие-то странные лица, много лиц. А невиданные, даже в сказочных картинках, звери! Я знал толк в не связанном ни предрассудками, ни наукой свободном «зверотворчестве», но, кошмарные морды, изображенные моим новым знакомым, то рыбьи, то птичьи, крылья прямо изо лба, хвосты, заменяющие уши, поток загадочных людей с лицами на коленях и слоновыми ушами буквально подавили меня. Мой новый знакомый милостиво рассмотрел моих вырезанных из бумаги скромных всего лишь четвероногих и однохвостых представителей земной фауны и сказал:
— В этом что-то есть…
Он сказал эту фразу медленно, но как-то «сразу», и я почувствовал, что так сказали ему о его чудиках. «Врун и задавала, — подумал я. — А Димка мне его привел, чтобы насолить, верно, и по сей день жалеет, что похвалил моего первого крокодила».
— Димка, — сказал я, — выйди, будь другом. Нам нужно поговорить.
Когда Димка вышел, мой товарищ по искусству перестал задирать подбородок кверху и спросил меня:
— Ты что, кого хочешь можешь вырезать?
Я подтвердил.
— А я вот нет… Конечно, если очень захочу, то потрачу день, два дня, но все равно нарисую. А так, чтобы сразу… Нет, не выйдет… Да и ты небось врешь?
— Я хоть сейчас, мне не трудно, — заспешил я: разговор меня ужасно заинтересовал. — Вот, пожалуйста, кого тебе? Хочешь петуха? Или слона?
— А лягушку сможешь?
— Лягушку трудно, у нее профиль такой… Ну, такой, без выступающих частей.
— Нехарактерный, — строго заметил мой знакомый, заметно оживляясь. — Так лягушку ты не можешь. А кого ты можешь?
— Да кого хочешь! Вот — смотри!
Я вырезал ему петуха, и бегемота, и лисичку, и пантеру Багиру из «Маугли», и индейца с луком. Я вырезывал и вырезывал, и каждый мой зверь или человек вызывали у моего знакомого неподдельный восторг. Потом он с грустью сказал: «А я вот не могу, чтобы что хочу… У меня дело потрудней будет. Я, понимаешь, беру лист бумаги и делаю так». Он достал листок бумаги и карандаш и стал быстро черкать по всем направлениям, а когда листок покрылся сетью запутанных завитков и зигзагов, отодвинул свое произведение на расстояние вытянутой руки, потом повернул листок и так и этак, громко сказал:
— Курица!
— Какая курица? — спросил я.
— Ясно, какая, обыкновенная. — Мой новый знакомый быстро обвел контур, и я тоже увидел, что в переплетении его каракуль было видно нечто очень похожее на курицу, только без хвоста. Потом этот «талантливейший человек» и «тоже художник» взял в руки резинку и тщательно стер все, что не относилось к -курице, дорисовал кое-как хвост и, подписав внизу «Анатолий Жук», проставив красиво число и дату, вручил мне свой новый шедевр.
— Это на память… — сказал он.
— Так ты даже рисовать не умеешь? — сказал я.
— Как не умею, а курица! — вдруг обиделся Толя. — А ты-то, ты-то, молчал бы! Лягушку и ту вырезать не можешь… Ну, не обижайся, мне Дмитрий сказал, что ты болен и тебе нельзя волноваться…
Он ушел, а Димка, заглянув ко мне вечером после школы, внимательно разглядел курицу и сетку стертых «подготовительных» штрихов и упрямо заявил:
— Чего ты придираешься? Курица как курица, мне и такой не нарисовать. Воображаешь ты, Мишка, много… — Потом подумал и добавил: — А ведь жулик этот Толька, настоящий жулик, а его водили к какому-то знаменитому художнику, и тот его хвалил…
— И вовсе он его не хвалил, — теперь уже уверенно заявил я. — Просто этот художник сказал, что «в этом что-то есть».
Нас провожал один дедушка. Шура и Димка были в школе, отец Димки уехал куда-то по делам. Дедушка вручил мне толстую книгу, на обложке которой длинная шпага с витой ручкой была воткнута в широкополую шляпу с пером.