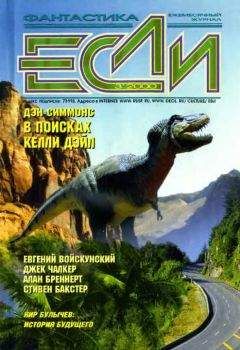5. «Волшебник Изумрудного Города», киностудия им. М. Горького, ТО «Ладья», РОСКОМКИНО, 1994 г.
Родителей я не виню — даже после всего, что случилось. Свое решение они приняли не по капризу — им обоим в детстве и юности пришлось несладко. Мой дед со стороны отца страдал маниакально-депрессивным синдромом. О его переменчивом нраве слагали легенды. Семейство поминутно бросало из огня дедовых громокипящих страстей в пламя его отчаяния. Когда отец женился, он мечтал, чтобы в его доме не умолкали музыка и смех маленькой девочки; и разумеется, он хотел быть уверенным в том, что дочь не унаследует болезнь своего деда. Отец родился в восьмидесятых, когда ген биполярного синдрома еще не был открыт, а подавлять его научились вообще лишь много лет спустя. Как жаль, что генная инженерия не удовольствовалась умением удалять ненужные гены и двинулась дальше. Но я отвлекаюсь… У моей матери, напротив, было идиллическое детство (возможно, даже слишком идиллическое): она считалась вундеркиндом и пятнадцать безмятежных лет концертировала как скрипачка, срывая восторженные аплодисменты, пока не обнаружила, что детская виртуозность еще не предполагает гениальности во взрослом возрасте. Узнав истинные пределы своих способностей, она закусила губу и поклялась, что для ее дочери не будет ничего невозможного.
Итак, меня не столько зачали, сколько спроектировали — полагаю, здесь этот глагол уместен, так как я (и тысячи мне подобных) начала жизнь не в качестве человека, но в качестве концепции, набора параметров, который лишь впоследствии обрел плотскую оболочку. Моя семья была довольно состоятельной — мы жили в собственном доме в Рестоне, фешенебельном коттеджном поселке на севере Виргинии — но услуги инженеров-трансгенетиков стоят недешево, так что мне пришлось обходиться без братьев и сестер. Как бы то ни было, вложения моих родителей оправдались. К четырем годам, как только мои пальцы достаточно окрепли для игры на рояле, я начала подбирать на слух замысловатые мелодии, слышанные по радио. У меня была (впрочем, и есть) эйдетическая память. Едва выучив ноты, я обнаружила, что могу читать с листа практически любое музыкальное произведение: мельком глянув на страницу, я проигрывала мелодию по памяти, ни разу не сбившись. Способность читать с листа — счастливое чудачество памяти — составляет восемьдесят процентов так называемой «музыкальной гениальности»; но, как вы понимаете, свой дар я получила не от судьбы.
Остальные двадцать процентов гениальности — исполнительская техника. С ней у меня тоже было все в порядке. В семь лет я играла Баха — «Тетрадь Анны-Магдалены», пьесы, которые он написал для своей дочери; в восемь — его же «Инвенции»; когда же мне исполнилось девять, я освоила труднейшие места «Микрокосмоса» Бартока. График у меня был плотный: дважды в неделю занятия с учителем музыки; ежедневно два часа репетиций, иногда концерты. Плюс обычная школа, где мне не делали никаких поблажек. Но все это было мне в радость — я не преувеличиваю. Я любила музыку, любила играть и сочинять. Да, конечно, я была рождена для музыки — в буквальном, увы, смысле. Дело было не только в моих генах, но и в том, что музыка окружала меня с младенчества. Внедрившись в сенсорные отделы моего мозга, она стала базой, на которой основывались мои последующие умения и навыки. Иногда я спрашиваю себя, не делает ли это мою любовь к музыке какой-то… искусственной… Но как быть со сладкой меланхолией, разрывающей мое сердце всякий раз, когда я играю адажио из «Концерта ре-минор» Марчелло, как быть с чувством вселенской умиротворенности, которое пробуждают во мне «Образы» Дебюсси? Эти эмоции вполне реальны, хотя «провода», по которым они текут, были проложены в моей душе нарочно.
Как знать? Возможно, даже моя одержимость музыкой — и та была мне предписана, предопределена заранее. Тогда становится понятно, почему в детстве я всецело отдавалась своим занятиям (и правильно делала, так как на начальном этапе такая сосредоточенность необходима), пренебрегая обществом других детей. Лишь в двенадцать лет я впервые заметила, что в моей жизни чего-то недостает. Но учиться общаться, что другие постигли бессознательно, оказалось уже поздно. В школе у меня было несколько знакомых. Меня нельзя назвать изгоем, и все же… Товарищи по играм? Никого. Близкие друзья? Об этом даже вопрос не стоял. Ежедневно в три часа, когда кончались уроки и мои одноклассники разбегались по окрестным детским площадкам или торговым центрам, я оставалась позади, точно камень в самый разгар листопада: слишком тяжелая, чтобы взлететь. Я брела домой заниматься на рояле. Или читать романы в роще у озера Одюбон. Читала я с головокружительной скоростью, едва успевая перевести дух над каждой страницей, но жизни, о которой рассказывалось в книгах, я абсолютно не понимала: так и мои легкие не понимали, что всасывают кислород.
И вот в один из этих дней — точнее, вечеров, ибо дело было осенью, и солнце уже клонилось к закату — я лежала на животе на куче дубовых листьев, читала какую-то книжку и слушала через лазерный чип Рахманинова. Вдруг за спиной раздался мальчишеский голос.
— Привет!
Я испуганно вскочила и оглянулась. У клена, прислонившись к его могучему стволу, сидел мальчик моего возраста с огромной растрепанной папкой для этюдов — оранжевая обложка, листы- кремового цвета. Кожа у него была бледная, а волосы темные — совсем как у меня. Однако он был выше ростом, этак на полголовы. Мальчик показался мне смутно знакомым, и я предположила, что видела его в школе.
— Привет, — ответила я.
В его появлении крылась какая-то загадка. Как он подошел, я не слышала. Десять минут назад, когда я только устроилась на листьях, его точно не было на поляне. Но я так обрадовалась возможности хоть с кем-то поговорить — и, вообще, вообразите, кто-то заговорил со мной первым! — что не стала особенно задумываться над этими неувязками.
Мальчик улыбнулся — вполне приветливо.
— Меня зовут Роберт.
Одиночество не излечило меня от застенчивости; помешкав, я опасливо шагнула к нему.
— Я — Кэтрин. Кэти.
— Ты здесь живешь?
Я кивнула:
— На Хауленд-драйв.
— Да? — просиял он. — Я тоже.
Ясно. Наверное, я видела его на улице. Чуть расхрабрившись, я показала на его папку:
— Можно посмотреть?
— Конечно, — он подвинул папку, чтобы мне было лучше видно. Я села рядом с Робертом. На верхнем листе был прелестный карандашный этюд нашей поляны, демонстрировавший (как я теперь понимаю) великолепное знание перспективы и светотени.