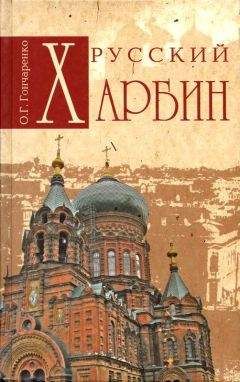Я спускался к дому неверным шагом, тяжело дыша.
— Здравствуй, Никола, — сказал мне отец, неторопливо шествуя навстречу и, по вечной своей привычке, пожевывая темный мундштук.
— Папа, здравствуй! — отчаянно выдохнул я. — А березы-то!
— Срезали, — спокойно кивнул отец.
— Какая жалость! — выкрикнул я и тут едва не заревел.
— Жалко, — кивнул отец и сосредоточенно вынул мундштук изо рта. — Что тут скажешь… Не все нам любоваться, кому-то в дело.
Куда я попал! Я наполнялся пустым, холодным ужасом, видя, что этот, мой родной, дом — уже не совсем мой и вся земля кругом — не моя. Все неотвратимо делается чужим… а я сам — как бы нигде и никто, точно из меня всю мою душу вынули, пустив внутрь какой-то эфирный хирургический холод.
— Не унывай, — сказал отец. — Иди обедать.
Я болел день за днем. Я не мог смотреть в окна. Я ощущал страшную потерю хуже, помилуй Бог, смерти близкого человека. То, чего меня лишили, я осознавал как исконно, священно моё. Я не знал куда себя деть!
В тот день, за обедом, я сказал, чувствуя виском зияющую пустоту окна:
— Папа, я теперь не смогу жить здесь летом.
— Почему? — спокойно и грустно спросил отец.
Я посмотрел на него с отчаянием: разве он не понимает «почему»?.. и раз не понимает, значит, не переживает того же сам… и раз он… то как я смогу объяснить?!
Я снова чуть не заревел — в свои гордые пятнадцать лет… И, до боли согнув шею, капнул в суп.
— Потерь в жизни немало… и будет немало, — сказал отец, бережно погромыхивая ложкой. — Не мы хозяева мира… Каждый хочет остановить время, Никола… Но Бог милостив, Он обещал, что когда-нибудь Он Сам его остановит.
— И что тогда? — буркнул я.
— Тогда воскреснут раз и навсегда только самые чистые и самые детские наши воспоминания, — пообещал отец. — И то, прошлое окно — тоже. Вот и будут новое земля и новое небо… А пока придется потерпеть.
Я посмотрел на него, не веря и ничего не понимая.
— Отчего ты не спросишь, где мама? — спокойно спросил отец.
А мама всего-то на всего отъехала в уезд, в нотариальную контору.
Я не стал жить дома в то лето… В начале мая случилось худшее: холм, мой любимый холм, на котором провел детство, обнесли оградой, не пускавшей меня. И это стало самой горькой в моей жизни несправедливостью… ведь прогоркло-сырой день марта восемнадцатого года, когда хлипко и бессильно запылал облепленный мужиками дом и в его гостиной стали со звонкой мукой обрываться раскаленные струны рояля… даже тот день не оставил во мне такого — незаживающего — надреза…
И вот теперь Москва, и это гулкое, громоздкое, громадное будущее с какой-то новой гражданской войной по соседству. Повторялась трагедия моих берез. Этой Москвы не существовало, не могло существовать для меня, и этого будущего как бы вовсе не было. И — взаимно. Для этой Москвы не могло быть меня.
За что?
«Есть, есть за что, — сказано мне было прямо в глубину темечка каким-то чрезвычайно приветливым голосом. — Все, что ты помнишь и любишь, — одни березки, да окошки, да холмики. Только вот любишь, по устройству души своей, все снаружи, со стороны…»
«Как это «со стороны»?!» — взбунтовался я…
А верно ведь замечено. Снаружи… Из пустоты.
«Ведь ты березками да дождиками что в своей душе подменяешь? Известно? Первую же заповедь сразу… Вспомнил… «…и всею крепостию своею». Кого? Ведь предупреждал Предтеча иудеев: не кичитесь избранностью своею… подумаешь, дети они Авраамовы. «Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». И из камней сих Бог может создать десяток Россий, как создал и ту, при которой душа твоя драгоценная вся из окошек да березок. Забыл, что будет со сберегшим душу свою?! Вот!»
«Не забыл! Не забыл!» — захлебнулся я.
«…Вот вы умники душевные так и сгубили свою Россию. Своей любовью к березкам да дождикам, да к «говору пьяных мужичков»… своим душевным обожанием и накликали дровосеков. А теперь вздыхаете: срезали… И не в том беда, что памятник переставили, а в том, что ты душой суетишься только… все ее переставить поудобнее ищешь».
Проклятая рефлексия! Я увидел. Себя. Со стороны. Паяц в узеньких, разве что не балетных штанишках.
Я отвел взгляд в сторону и увидел светлые и толстенькие томики собрания сочинения Ивана Алексеевича Бунина. И сразу на душе потеплело: лучик моего родного времени соединил меня с чужим 1993-м годом. Издание оказалось совсем новым, и я сказал вслух (да и сейчас повторяю):
— Иван Алексеевич, как я рад за вас!
Тут явились и Бальмонт, и помраченный Блок, и Брюсов — и все свои как будто посмотрели на меня, говоря: «Не горюй! Подумаешь, Пушкина переставили… Смотри глубже. В корень».
Как я был всем им рад!
— И правда. Куда они могут «переставить» Пушкина!
Толстый энциклопедический словарь, глубокомысленно стоявший в сторонке, таил от меня множество страшных тайн. Поколебавшись, я протянул к нему руку.
«Никакой политики! — запретил я себе. — Плюнь! Одной революцией больше, одной меньше… Смотри в корень. Иван Великий пока стоит. Большой Театр стоит. Конец света еще вроде бы не наступил, и меня, наверняка, накормят ужином в одна тысяча девяносто третьем году от Рождества Христова. Что необходимо и, в общем-то, достаточно…»
Я распахнул букву «А» и задрожал. Буква «А» была самой запретной. Но я рискнул. Слава Богу, не нашлось ничего страшного…
А вот и Бальмонт, и Брюсов, и Бунин… были и Есенин (что с ним будет, молчу!), и красномазый крикун Маяковский (и тому туда же)… «Реформатор поэтич. языка»… этот варвар-то, гунн, бр-р-р!
Из наших мало кто потерялся в Лете… разве что мы с гипостратегом подкачали… О, эти годы с роковой черточкой посредине! На несколько часов я пережил всех и о всех порадовался и о всех взгрустнул.
Я сильно смутился, когда вошел хозяин.
Заметив словарь в моих руках, он все понял:
— Себя искали?
— Слава Богу, не нашел.
— Да, — неопределенно кивнул Виталий и, потупившись, добавил: — Я вам завидую.
— Стоит ли? — засомневался я.
Он неловко развел руками:
— Все-таки разнообразие в жизни… Знаете, по-моему, жена немножко поверила.
Хозяйка вошла в нарядном платье, неся салатницу и глядя на меня уже вполне гостеприимно. Малыш остался в дверях, крепко ухватившись за косяк.
Я принял решение материализоваться пообстоятельней и сказал в поддержку Виталия:
— Мне, право, очень неловко, сударыня. Ваш супруг, вероятно, уже удивил вас небылицами, а у меня, хоть убей, на руках никаких доказательств.
— Да, — очень деликатно улыбнулась она. — Кроме замечательного акцента.