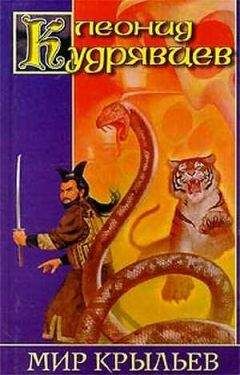Барримор долго молчал. Потом он откинулся на спинку кресла, и я понял — гроза миновала. “Вы болван, Эзертон, — сказал мне Барримор. — Вы ничему не научились за пять лет. Но я вам покажу, как надо работать. Идемте”.
Через минуту машина Барримора мчала нас к доктору Фрадье. “Посмотрите, Эзертон, который час”, — сказал Барримор. Я посмотрел: было без четверти одиннадцать. “Через полчаса все будет кончено!”. Я промолчал. Впервые за пять лет я не поверил Барримору. Я знал — он способен на все. Но на этот раз я ему не поверил.
Доктора Фрадье мы застали в кабинете, это были приемные часы. Нас встретила горничная и провела к доктору. Мы прошли пустую, очень скромно, я бы сказал — бедно обставленную приемную, и Барримор открыл дверь в кабинет. Доктор Фрадье шел нам навстречу.
Едва взглянув на него, я подумал: “Да, на этот раз Барримор получит отпор”. У доктора было розовое, очень доброе, очень усталое лицо. Такими бывают доктора в детских сказках. Таким я когда-то мечтал стать.
“Слушайте, док, — сразу же сказал Барримор. — У нас к вам дело. Выгодное дело. Посмотрите-ка эту бумажку”. И он протянул ему листок с собранными мною сведениями.
Вы знаете, за пять лет работы я многое видел. Такое видел, что не приведи господь вспомнить на старости лет… Но лицо доктора — этого нельзя забыть. Оно стало серым, глаза налились кровью, рот судорожно, как в припадке астмы, глотал воздух.
“Слушайте, док, — бархатным голосом продолжал Барримор. — У вас куча долгов, у вас нет пациентов. Ваши родители разорены, и гроши, которые вам платит Бартлет, это капля в море”. Доктор положил листок на стол. Я видел- рука доктора дрожала. “Что вам надо?” — прохрипел он. “Только одну небольшую услугу, — ласково сказал Барримор. — Расскажите нам, что применяет Олден. И за это — четыре тысячи долларов. Тут же”.
И тогда доктор Фрадье указал нам на дверь. Он был бледен, этот доктор, у него дрожали руки, прерывался голос. Но он указал нам на дверь. Я торжествовал!
Но Барримор только рассмеялся. Рассмеялся, бесцеремонно придвинул стул, сел и выложил на стол пачку долларов. Новеньких, сверкающих радужными красками долларов. “Здесь пять тысяч, док”, — сказал он. “Вон! — закричал доктор. — Убирайтесь вон!”
Барримор покачал головой: “Будьте деловым человеком, док”, — и достал еще одну пачку. “Теперь здесь семь тысяч, — он говорил своим страшным бархатным голосом. — Семь тысяч, доктор Фрадье. Это ваши долги, это долги вашего отца, это реклама, без которой пациентов никогда не будет”.
Фрадье старался не смотреть на деньги. Я видел — он боится взглянуть на стол. И я понял: Барримор победил.
Доктор отбежал к окну, повернулся к нам спиной. А Барримор ласково говорил: “Я ценю ваши чувства, уважаемый док. И вот вам доказательство. Я добавляю еще одну тысячу.
Он шелестел новенькими банкнотами, и от этого шелеста Фрадье дрожал, как в лихорадке. Вы знаете, что такое шелест новеньких долларов? Если в аду есть музыка, она на девяносто процентов состоит из этого дьявольского шелеста. Он совсем тихий, еле слышный, но он заглушает все — и голос совести, и голос разума, и голос долга… Есть что-то змеиное в этом шелесте.
Барримор шелестел долларами, и плечи доктора опускались, спина сгибалась, словно этот проклятый шелест был непосильной ношей. И тогда Барримор спокойно сказал: “Соглашайтесь, доктор. Я добавляю еще пять тысяч”.
Фрадье обернулся. Его трудно было узнать. За эти минуты он постарел на двадцать лет, на целую вечность. “Хорошо, — сказал он каким-то мертвым голосом. — Я согласен”.
“Превосходно, док! — рявкнул Барримор. — Выкладывайте начистоту. И не вздумайте что-нибудь скрыть. Мой спутник — медик”.
Фрадье говорил, как во сне. Мне кажется, что он еще не совсем осознал, что произошло. И эти банкноты на столе… Он не мог не смотреть на них…
Но все было просто, так просто, что я понял с первых же слов. Остальное касалось деталей.
Вы не медик, поэтому я объясню вам в общих чертах. Когда человек болен туберкулезом и легкие поражены, возникает чувство удушья. Чем можно помочь? В наших клиниках применяют кислородные подушки. Но за границей нашли другой, лучший способ. Больному делают переливание крови. Кровь при этом берут не обычную, а с добавлением перекиси водорода. Понимаете, что получается? Перекись содержит много кислорода. В организме этот кислород постепенно выделяется. И пока идет процесс выделения, кровь в избытке насыщена кислородом.
Фрадье знал о работах зарубежных ученых. И когда однажды импрессарио Бартлет спросил его, нет ли какого-нибудь доппинга для ныряльщиков, Фрадье сказал: “Есть”. Бартлет дал деньги на опыты, нужно было подобрать такой замедлитель, чтобы перекись начинала выделять кислород не сразу, а минут через двадцать после введения в организм. Потом Бартлет разыскал Олдена… И это все.
Мы ушли, а доктор Фрадье, ссутулившись, сидел за столом. Перед ним лежали банкноты, радужные, новенькие банкноты…
“Ну, Эзертон, посмотрите на часы”, — сказал мне Барримор. Я посмотрел: прошло всего I семнадцать минут. Семнадцать минут, пачка долларов — и человек совершил предательство!
В бюро нас ожидал Хэзлит. Мы заперлись в кабинете Барримора, и я все изложил Хэзлиту. Он долго смотрел на меня своим липким взглядом. Потом спросил: “Скажите, доктор, а если увеличить концентрацию этой… перекиси водорода?” Я объяснил, что это очень опасно. Выделившийся кислород, если его будет много, вспенит кровь, закупорит кровеносные сосуды. Наступит паралич. Концентрация перекиси не должна превышать определенного предела — об атом сказал Фрадье. “Та-ак, — протянул Хэзлит и скользнул по мне своим лягушечьим взглядом. — Та-ак. Значит, паралич… У меня больше вопросов нет”. Барримор посмотрел на него, засопел, кашлянул и сказал мне: “Ну, на сегодня вы свободны, Эзертон. Вы хорошо поработали. Можете получить у кассира двести долларов. Идите”.
Двести долларов — это тоже блеф, широкий жест перед клиентом. У нас все знают: названную Барримором цифру нужно уменьшить в десять раз. Я получил двадцать долларов. А Хэзлит просидел у Барримора еще четыре часа. Я это точно знаю. И еще я знаю — они посылали машину за доктором Фрадье.
Ну, а на следующий день были соревнования. Я не мог не пойти в бассейн Феникс-парка. И я пошел.
Вы читали в газетах отчеты об этих соревнованиях. Поверьте, на этот раз газетчики не врали. Они просто не понимали, что произошло. Но я догадывался с самого начала. Расчет Барримора и Хэзлита был прост. Все ставили на Олдена пять против одного, десять против одного… Никто не сомневался, что Олден побьет Фелпса. Ведь Олден был чемпион, абсолютный чемпион!