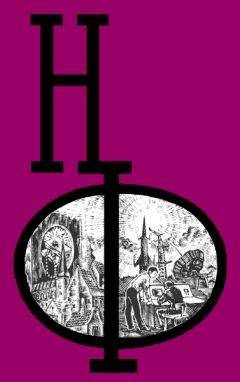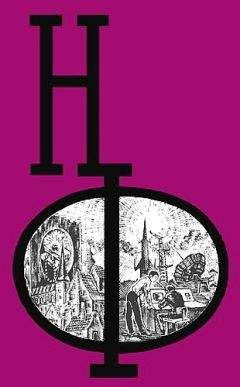Секретарша внесла поднос с чаем. Директор подвинул стакан и розеточку с сахаром к Урманцеву.
— В лаборатории нездоровая атмосфера, Валентин Алексеевич, — директор давил ложечкой подтаявшие кусочки сахара. — Не в вашей и не в моей власти убирать людей, которые нам не нравятся, и назначать более симпатичных. Тем паче, когда это касается работников высшей квалификации… Да и объективных данных к этому нет. Всем вам придется еще долгие годы работать вместе. И отношения должны быть соответствующие. В общем, на работе это не должно отражаться. Вы согласны?
— Не во всем.
— В чем именно?
— Есть процессы, за которые я и другие работники не можем брать на себя ответственность. Короче говоря, не все исходит от нас.
— У вас хороший работящий коллектив, Валентин Алексеевич. Это большая сила. И там, где надо, можно так дать по рукам, что… Но нужны факты. Факты! А всякой закулисной лирике противопоставьте коллектив. Если стадо хорошее, то и паршивая овца будет вести себя хорошо. Ясно?
— Ясно. Только…
— Что?
— Это уже, как говорится, из другой оперы. Нужен генеральный эксперимент, Алексей Александрович.
— Считаете, пора выносить в космос?
— Пора.
— Ну что же, попытаюсь провентилировать это в координационном совете… Уж больно много всяких заявок! А спутник — дело дорогое.
— Биофизики ведь добились? И другие институты тоже…
— Ну, ладно! Попробуем. Может, и я чего-нибудь добьюсь. Пишите докладную.
— Вам?
— Нет. Прямо председателю координационнного комитета космических исследований.
— Минуя вас?
— Они мне не начальство. Можете и минуя меня! — улыбнулся директор. — Хитрый вы парень, Урманцев! Молодой, а хитрый.
— Вас тоже бог не обидел, Алексей Александрович.
— Ну ладно, ладно… — проворчал директор. — Да, постойте… Читал вашу статью. Там все правильно? Действительно, чувствительность 10–40?
— Подтверждено экспериментом. Интерференция появляется за порядок до этой величины.
— Значит, в космос хотите?
— Хочу.
— Ну, добро! Значит, мы договорились. В координационном комитете я это дело провентилирую, а вы обещаете мне примирить разбушевавшиеся страсти в лаборатории. Так?
— Никаких особых страстей-то и нет, Алексей Александрович, если бы Иван Фомич…
— Не объясняйте, я все знаю. Не хочу больше слышать про вашу лабораторию! Что, у меня других дел нет? И докладные записки от Пафнюкова мне не нужны.
— Так я же…
Но директор опять прервал:
— Вы теперь руководитель лаборатории. Пафнюков ваш подчиненный. За его художества спросится с вас. А уж как вы будете его утихомиривать, — ваше дело. Только чтоб я больше ничего о вас не слышал!.. Кроме хорошего, разумеется.
— Понятно, Алексей Александрович. Я вам больше не нужен?
— Располагайте собой, Валентин Алексеевич.
Урманцев, миновав двойную дверь, прошел через секретариат в коридор. Он был зол, но доволен.
— Нет смысла быть плохим человеком, если это не доставляет никакого удовольствия, — сказал однажды себе Мильч.
Никто не возразил против мудрой сентенции — в комнате никого не было.
— То же самое можно сказать о хорошем человеке, — изрек Мильч, и снова никто не отозвался. Тогда он ответил сам:
— В наше время хорошим быть легче, а плохим — интереснее.
Период душевного кризиса и тактических сомнений миновал. Зима тревоги нашей позади. Мы не станем повторять ошибки великого комбинатора, наш путь будет верен, как некрасивая жена, и прямолинеен, как мышление ортодокса. Дорога открыта к успехам…
За последнее время рокфеллеровская деятельность потеряла для Мильча всякий смысл. Хранить и сбывать продукцию он не мог — слишком рискованно. Нужно было искать другие пути…
И он нашел.
Сначала разыскал Подольского.
Это был самый подходящий объект. Эрудит-одиночка, у которого не было почти никаких знакомых в административных кругах института вакуума. Разглашения тайны здесь как будто ожидать не приходилось. Михаил сидел перед кипой схем и чертежей и устало смотрел на какой-то график с апериодическими кривыми. На бледном лице его явственно проступало тщательно скрываемое, отчаяние.
— Электрокардиограмма? Биотоки мозга? — осведомился Роберт, указывая на график.
— Не дури, Роби, садись, — изображая улыбку, приветствовал его Михаил. — Как проблема радости?
— Проблема решена и получила практическое воплощение. А ты что не весел?
— Да так…
Что он мог ответить? Дело шло из рук вон плохо. Подольский чувствовал себя последней бездарностью. Если бы Евгений Осипович был Жив! Да, но тогда несдобровать бы ему, Михаилу Подольскому. Все бы увидели, какая он бездарность. За это время он не сдвинулся ни на шаг. Проблема буксовала, как грузовик в весеннюю распутицу. Валентин Алексеевич, конечно, славный мужик, он поддерживает и помогает, но это же не его проблема, а сейчас он завлаб и у него столько забот… Дай бог, раз в неделю переговоришь, да и то на ходу, где-нибудь в коридоре. Ах, если б Евгений Осипович видел, как он завяз, безнадежно завяз в поисках решения, которое, может быть, находится где-то рядом…
— Сон наяву? Приятные галлюцинации? Нирвана? — вежливо спросил Мильч.
Если не обманывать ученых, кого ж тогда обманывать в наши дни? Впрочем, современный ученый сам кого хошь надует. Но в Подольском что-то есть от ископаемого вида так называемых чистых ученых. Чистота их помыслов гармонирует с грязью на воротничке и нечесаной шевелюрой. Обязательно ли сосуществование моральной чистоты и натуральной безалаберности?
— Я пришел тебя пригласить, — торжественно начал Мильч. Михаил удивленно поднял голову.
— Ты женишься?
— Там, где прошла женщина, мне делать нечего, — брякнул Роберт.
Михаил подозрительно посмотрел на него.
— Ну, выкладывай, зачем пришел?
— Понимаешь, это надо посмотреть своими глазами, — протянул Мильч, — так на словах трудно объяснить, да… и я сам толком не знаю, как это…
Он рассудил, что глупо держать Рог на складе, рискуя ежеминутно быть накрытым. Он перекрасил его в черный цвет, покрыл лаком, отхромировал рукоятки, вставил в него потенциометр и под видом старого хроматографа перетащил в основное лабораторное помещение — в ту комнату, где работала Епашкина. Ольга Ивановна пыталась было протестовать, но Роберт шуточками и улыбочками успокаивал ее.
Вначале это было нелегко. Но когда Мильч обнаружил у Епашкиной одну маленькую слабость, он безжалостно ею воспользовался. «Наши слабости — это ступеньки прогресса», — говорил он, закупая в букинистических магазинах дорогие издания дореволюционных поэтов «Ваши слабости — наша сила», — думал Мильч, перепродавая за бесценок Ольге Ивановне тонкие книжицы с ломкими страницами. И Епашкина сдалась. Она позволила Роберту укрепиться в ее помещении под сладкоголосый лепет Северянина и буйные возгласы Андрея Белого.