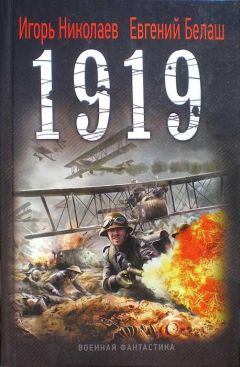Артиллерия, подлинный Бог Войны, заработала в полную силу.
Температура, влажность и плотность воздуха, скорость и направление ветра на разных высотах, точная позиция каждого орудия, степень износа стволов, вес зарядов и серий пороха из клейменых партий, координаты целей, потом и кровью добытые разведкой — все подлежало учету. Все преобразовывалось в длинные цепочки чисел, просчитываемых на странных приборах, чтобы стать другими числами на стопках таблиц стрельбы или прямо на щитах орудий. Повинуясь магии цифр и науке стрельбы, купленной годами опыта, тяжелые снаряды стирали окопы, крушили бетонные доты, сминали грузовики как легкие жестянки, опрокидывали орудия, превращали укрытия пехоты в скотобойни, переворачивали аэропланы, как бумажные игрушки, поднимали в воздух склады. Ближе к фронту вставали сплошные стены из дыма, взметенной вверх земли и обломков. Удар следовал за ударом с математической точностью. Если какой наблюдатель, скрючившийся в подземном убежище, оглохший от внезапной канонады, и уцелел, он все равно не разглядел бы за пеленой дымовых снарядов даже стада слонов.
Действуя словно во сне, Уильям посмотрел на свои часы, безотказные «Smiths», сам не зная зачем. Разумеется он не мог услышать, что тиканье прервалось, но увидел, что секундная стрелка остановилась. Часы замерли, механизм умер, но ни огорчиться, ни обдумать это лейтенант уже не успел — даже сквозь рев тысяч стволов Дрегер услышал самый страшный и ненавистный для пехотинца звук, пронзительно ввинчивающийся в самый мозг. Вопль свистка, призывающий к броску вперед, под вражеский огонь, по перекопанной земле нашпигованной металлом, на изорванную, но все такую же цепкую колючую проволоку.
С первым залпом танки двинулись вперед, торопясь достичь вражеских траншей, за ними бросками устремились штурмовые группы.
До передовой «крысы» добирались на нескладных внешне, но надежных американских грузовиках. Шейн и Мартин сидели друг против друга, американец прикрыв глаза шевелил губами, наверное, молился. Сам огнеметчик как обычно в такие моменты вспомнил детство и школу. Когда автобус вез маленького Беннета в храм знаний, каждая минута дороги была проникнута болезненной радостью. Радостью — потому что это были последние свободные минуты перед учебой, которые можно было употребить на ничегонеделание или даже дрему на жестком сидении. Болезненной — потому что ни на секунду не удавалось забыть об ожидающих впереди часах неволи и дисциплины.
«Либерти» тряслись и подпрыгивали на ухабах, амуниция гремела, словно камни в консервных банках, а Мартин, прикрыв глаза, как в прежние времена, представлял, что впереди бездна времени и каждая следующая секунда в разы длиннее предыдущей.
Бешеный рев артиллерии уже стал привычным, отошел на задний план, превратившись почти что в обыденный фон. Солдаты понемногу переставали чувствовать себя мышами в горшке с камнями, как выразился однажды Шейн. Только приходилось повышать голос и наклоняться к собеседнику, перекрикивая слаженный оркестр сотен и сотен стволов. Рассвет еще только готовился вступить в свои права, отвоевывая время у ночи, но кругом было светло почти как днем от множества фонарей, ламп, множества осветительных снарядов и вспышек канонады. Мартин порадовался — светомаскировка была отброшена, наступление уже явно шло полным ходом, но он не видел ни одного «куста» разрыва от ответного немецкого огня. Это обнадеживало. Впрочем, умереть можно и абсолютным победителем, будучи сраженным случайным осколком последнего снаряда, который выпустили в никуда.
Вокруг бурлила жизнь — люди, техника, все устремлялось в одном направлении, грузовики, несущие штурмовой батальон, плыли в этом бурном потоке подобно щепкам, подхваченным разлившейся рекой. У Мартина даже появилась надежда, что они могут застрять на каком-нибудь перекрестке, и бесконечность, отделяющая его от боя, удлинится еще на множество секунд. Он устыдился душевной слабости и постарался изгнать недостойное пожелание, но оно лишь укрылось в дальнем уголке сознания, напоминая о себе как небольшая, но колкая заноза.
У взводного новичка — Майкрофта Холла — некстати начался приступ предбоевой паники. Как ни крути, каким бы великим бойцом ты не был, но страх смерти один из самых главных и непреходящих инстинктов человека. У каждого он проявлялся по-своему. Шейн впадал в грех обжорства и цинизма, Мартин отгораживался от будущего, представляя, что оно никогда не наступит. Даже Дрегер боялся, скрывая страх за маской требовательного и придирчивого командира — взвод давно раскусил его, но солдаты сочли за лучшее не просвещать лейтенанта. У Майкрофта вполне понятный мандраж прорвался самым неприятным образом — в виде неуемной болтливости. Ни с того, ни с сего, он вдруг стал длинно и многословно рассказывать историю из своей довоенной жизни, что-то про тетушку, гусей и соседскую девушку со странным именем Бернадотта. Его визгливый голос, балансирующий на грани истерики, безумно раздражал, отвлекая огнеметчика от сложной процедуры растягивания времени. Секунды снова становились короткими и быстрыми, приближая неизбежное. Мартин уже подумывал, не пожертвовать ли целой четвертью минуты, хорошенько стукнув паникера, но Шейн спохватился раньше. Янки коротко, но очень емко накричал в ухо Холлу, что он с ним сделает, если тот немедленно не заткнется. Это помогло, хотя бы на время.
Во впереди идущей машине что-то неразборчиво прокричал Боцман, грузовики, гремя моторами, немилосердно скрипя передачами, останавливались один за другим.
— По машинам, все по танкам, — лейтенант как обычно даже не очень повышал голос, но каким-то волшебным образом перекрывал любой шум. А для тех, кто по каким-то причинам его не слышал, надрывался рыжий ирландский капрал, популярно пересказывая команду командира.
— Вперед! Вперед!
Угловатое рыло ближайшего «рвотодава» торчало совсем рядом. Поднялся легкий утренний туман, струившийся в мутном искусственном свете как потусторонняя болотная дымка. Он размывал контуры предметов, и громада танка казалась языческим жертвенником покрытым пеленой застарелой паутины. Мартин вздрогнул от витиеватого сравнения и подумал, что все-таки в излишних знаниях — зло и печаль.
Вообще-то «свиньи», как их еще изредка называли, официально именовались «тяжелыми транспортно-десантными танками Mарк IX». Они являлись материальным воплощением простой, но безусловно гениальной идеи — посадить атакующую пехоту на шасси высокой проходимости. Идея оказалась крайне востребованной с первых же месяцев войны, когда армии закопались в землю как мириады трудолюбивых кротов, а каждый дюйм пространства между ними простреливался многочисленным арсеналом человекоубийственных инструментов. Артиллерия могла сокрушить любую оборону, превратив ее в пыль и пульпу, в которой равномерно перемешивались хорошо измельченные земля, бетон и плоть. Но атакующие пехотинцы неизбежно выдыхались среди лунного пейзажа миллионов воронок, стремительно теряя скорость наступления и отдавая инициативу обороняющимся. Никакой спринтер, будь у него хоть стальные пружины в ногах*, не смог бы промчаться через всю оборонительную полосу. По мере развития гусеничного транспорта и насыщения войск танками, пехоту все чаще старались посадить на них, для быстроты и надежности перемещения. Все в этой задумке было хорошо, но как обычно, красивый и оригинальный замысел столкнулся с прозаической обыденностью.