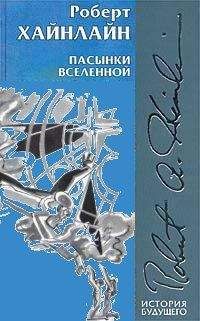Она сделала первый шаг и снова ощутила себя рекой, но уже не маленькой и тихой, а глубокой, полноводной, упругое течение которой наполнено энергией и радостью Вечного Движения… И течение было ею, и глубина была ею, и то, что там — впереди, тоже было ею… И она заговорила голосом Реки:
Я — Река…
Прикоснитесь губами к струе родникового пульса.
Я — Река…
Пробудитесь под утро от звона весенней капели —
Это брат мой — Ледник на вершине далекой проснулся,
Это Ливень — мой сын — пробудился в небесной купели…
Я — Река…
Да, река! От истоков бессчетных до дальнего устья.
Я — Река…
И иною не жажду вовеки ни быть, ни казаться.
Пусть Мороз в исступленье меня обнимает до хруста
Мне достанет любви, чтобы нежностью снега касаться…
Я — Река…
Несть числа для всевечных мгновенных моих ипостасей.
Я — Река…
В каждой капле дождя и в беспечной пушистой снежинке…
Возвращаюсь в себя, ибо смысл вознесения ясен —
Возвращенье к истокам течения вечного жизни.
Я — Река…
Утолите извечную жажду живительной влагой…
Я — Река…
Погрузитесь душою в упругую свежесть теченья…
Я — Река…
Я — забвенье и память… Любви изначальное благо…
Я — Река…
Я — начало…
Я — вечность…
Я — жизнь…
Я — конец…
Я — мгновенье…
И вдруг совсем другой, странно знакомый, чуть хрипловатый, наверное, от волнения мужской голос не то продолжил, не то попытался ответить на монолог Реки:
Я — воздух… Я жизнь треугольного мира.
В биенье сердец и в дыхании трав
Обретшая песню бездомная лира —
Как мертвая ветка — в пыланьи костра.
Кончается Путь обретением смысла.
Как преодоленьем кончается страх.
Кончается жизнь ощущением мысли,
Что в сущности жизнь не имеет конца.
Светильники звезд надо мною повисли,
Чтоб видеть я мог, не теряя лица,
Сколь мир мой увечен на вечном их фоне,
И принял на душу обузу творца.
(Обуза, подобная ломтю арбуза,
Что ловко разрезан ножом карапуза…)
Мой мир не ярится, не плачет, не стонет.
Он — просто летит не туда и не так.
Он напрочь забыл о Вселенском Законе,
Когда-то осколком Единого став.
Мир жизнью прекрасен… И страшен углами,
Как фразы обрывом — граница листа…
Быть может, в них спрятана дверь меж мирами?
А может быть, дверь в Никуда и в Ничто?
Возможно, они — точки связи меж нами?
И страшно, коль — жизни последний итог…
Но шарообразно миров совершенство,
Как шарообразен сонетов венок.
Оно не сулит неземного блаженства,
Лишь мир и покой и разумную жизнь,
И манит премудрой улыбкою женской…
Но всюду пред взором углов миражи.
Повсюду — следы сингулярного взрыва
И черная бездна вселенской межи…
Пусть мир неказист, но он все-таки диво,
И жизни счастливой бесспорно достоин.
Хотя кровоточат изломы разрыва,
Все ж в боль с головой погружаться не стоит.
Не стоит всю жизнь упираться в углы,
Как скучный осел в невеселое стойло:
Как ни были б наши осколки малы,
Мы, только живя, воскресим их единство
Так цель слита с луком в полете стрелы…
Покинуть свой мир было б право же, свинством.
Займемся же лучше своими мирами,
Чтоб в них из-за нас не творилось бесчинство.
Углы же пускай остаются углами —
Когда-нибудь встретятся наши миры,
Наступит финал в развернувшейся драме…
Но это зависит от нашей игры…
. .
А из-за строк блокнотного листа
Смотрел портрет Поэта, как с холста
Иль, может быть, скромнее — не портрет,
А лишь эскиз, набросок, силуэт…
И просыпался Город за окном
Спросонок бился в стену утра лбом.
И этак отряхнув остатки сна,
На стену лез — и падала стена.
Жизнь продолжалась… Если это жизнь:
Беги, хватай, а коль схватил — держись!..
С гостиничного шпиля солнца свет
На Город лился, словно бы в ответ
На кем-то ночью заданный вопрос.
И Город понимал: — Не вешай нос!
А Поэтесса глянула с испугом
На этот самый острый в мире угол…
И поняла по-своему ответ:
— Лишь Словом возвращается Поэт…
Философия есть путь, по которому мы идем.
М. Хайдеггер
Сущее-Бытие выходит к свету многими путями.
Аристотель
Философ был всецело поглощен созерцанием мощной сосульки, свисающей с карниза крыши прямо над его окном. Седая окладистая борода Философа чуть слышно шуршала по стеклу, когда он поводил головой, отслеживая зарождение талой воды на просвечиваемой солнцем изумительно красивой поверхности этого искусного произведения природы. Влага, казалось, проступала сразу по всей поверхности стройного тела сосульки, совсем не так, как пот, выступающий капельками из пор человеческой кожи то на лбу, то в какой-нибудь неудобопроизносимой промежности. И от этой одновременности сосулька выглядела, как полированный хрусталь.
Тончайший слой почти невидимой жидкости медленно стекал к острию сосульки и там пытался набухнуть каплей. Но то ли охлаждаясь по пути внутренним холодом самой сосульки, то ли от дыхания морозного ветерка — капельке не удавалось достичь приличествующей ей округлой формы и, тем более, оторваться от материнского тела. Она лишь удлиняла и заостряла его… Но вот в какой-то момент капелька вдруг набухла спелой почкой и… сорвалась с острия, сверкнув мгновенной солнечной искоркой, канув куда-то вниз. В чужое и враждебное ей пространство…
«Ложная метафора, — привычно придирчиво осадил себя Философ. — У воды в этом мире нет ничего враждебного. Она здесь бессмертна… Погоня за красивой метафорой искажает истину… Но без метафоры нельзя, ибо она возносит мышление на высший уровень обобщения… Чем значительней высота, тем слабее различимы подробности…»
Взгляд Философа оторвался от сосульки и ищуще метнулся в пространство за ней. Впрочем искал он недолго, а пролетев над заснеженными городскими крышами, по цвету подобными его бороде, уперся в неиссякаемый источник своих метафорических изысков. Ибо о чем бы он ни думал, в конце концов, оказывалось, что думает он именно о Ней — о Гостинице, вознесшейся над Городом перевернутой вверх острием исполинской сосулькой.