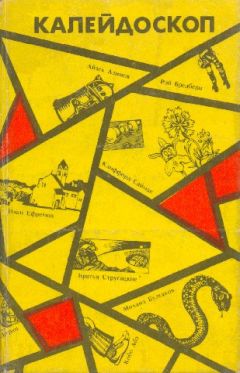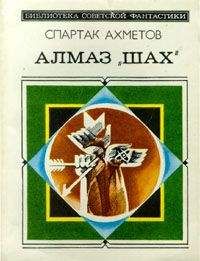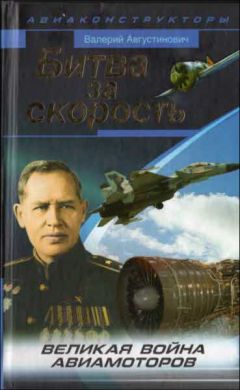— Весьма четко и достоверно. А что скажет президент Рысьеглазых?
Маркиз порывисто схватил инструмент. Через минуту его восхищенные возгласы разнеслись по саду.
— Поразительно! Непостижимо! Ваша милость, — обернул он к Галилею сияющее лицо, — позвольте выразить свое восхищение. Вы удлинили человеческие глаза. Ваш прибор позволяет смотреть так далеко… — Федерико вдруг застыл, пораженный, словно молнией, яркой мыслью. — Телескоп! Вот как его следует называть — телескоп!
— Телескоп? — Галилей сощурился, будто пробовал новое слово на вкус. Почесал родинку у глаза. — Хорошо! Вполне соответствует назначению прибора.
— Не угодно ли взглянуть в телескоп? — с поклоном обратился маркиз к тосканскому послу.
Инструмент переходил из рук в руки. Синьоры рассматривали Рим, пытались отыскать собственные дома. Громко выражали одобрение. Наконец телескопом завладел профессор Лагалла. Недоверчиво бормоча, он сначала рассмотрел близкий Мульвиев мост, потом поднял трубу выше.
— Взгляните на Колизей, — вежливо посоветовал Галилей. — Может быть, вы увидите две колонны вместо одной. Или заприметите несуществующих химер…
Лагалла неохотно расстался с инструментом. Лицо его было красным.
— Должен признать, — с трудом выдавил он, — что земные объекты не искажаются.
Галилей низко поклонился. «Этот перипатетик умеет проигрывать, подумал он, тая в усах усмешку. — Посмотрим, что он скажет, увидев рога Венеры или спутников Юпитера».
— Синьоры! — весело сказал Федерико. — Скоро зайдет солнце, мы сможем полюбоваться звездами. А пока прошу вас в зал, чтобы поднять бокалы за чудесный телескоп.
Гости во главе с хозяином и кардиналом неторопливо покидали террасу. Галилей торжественно продекламировал:
Вступая в знак Овна, вздымаясь к славе,
о Солнце, ты субстанция живая,
ты оживляешь заспанных, ленивых,
величишь всех и всех зовешь на праздник!
— Стихи ваши? — повернул могучий торс Барберини.
Галилей поймал удивленный взгляд Лагаллы и осекся. Стихи принадлежали Томмазо Кампанелле. Дальше шли рискованные строки:
Тебя я чту всех остальных ревнивей,
так почему дрожу в промозглой яме?
К тебе льнут недруги мои на воле,
к теплу и свету. Им живется краше.
Но я и в этом склепе не угасну,
когда со мной твой светоносный титул!
— Стихи мои, — поспешно сказал Галилей.
— Мы наслышаны о вас как о незаурядном поэте и музыканте, — кивнул тяжелой головой кардинал.
Профессор Лагалла промолчал.
Ужин удался. Ели нежное фазанье мясо, пили тонкие вина. Несмотря на весну, стол изобиловал зеленью. Говорили тоже много. Профессора Римского университета склонялись к мысли, что телескоп будет неоценим в военном и морском делах. Возможность детально разглядеть приближающиеся корабли или боевые порядки противника на расстоянии десятков миль даст военное преимущество. Телескоп — незримый лазутчик в стане врага. Кардинал благосклонно кивал.
Галилей был весел и возбужден. Рыжая борода победно топорщилась, с лица не сходила улыбка. Он не чувствовал боли в суставах, но мысль об осторожности сидела в нем, как гвоздь в сапоге. Он соглашался с профессорами, но полагал, что у телескопа значительно большие возможности, чем представляется на первый взгляд. Телескоп поможет сделать много новых открытий. Кстати заговорили о галилеевских анаграммах, в которых он зашифровал небесные наблюдения. Лагалла сказал по этому поводу сомнительный комплимент. Он восхитился латинской фразой «Haec immatura a me iam frustra leguntur О.Y.»,[22] которая при перестановке букв неожиданно превращается в другую фразу — «Cynthiae figuras aemulatur mater amorum».[23] Лагалла сказал, что Галилей подлинно ученый, ибо требуются огромная изобретательность и терпение, чтобы перелить одну фразу в другую. Хотя, конечно, наличие фаз у Венеры весьма и весьма сомнительно…
Федерико несколько раз выбегал на террасу. Наконец сообщил, что самые яркие звезды уже видны. Галилей поднялся, сказал весело:
— Последний бокал я хочу выпить за гостеприимного хозяина. Пятнадцать веков назад славный Марциал написал:
Это щедрое поместье близ Рима
Украшает хозяин. Ты как дома:
Так он искренен, так он хлебосолен,
Так радушно гостей он принимает,
Точно сам Алкиной благочестивый!
Все захлопали в ладоши.
На террасе было прохладно и тихо. Запах цветущего миндаля усилился. Белый туман закрыл священный Тибр и, постепенно разрежаясь до сизой дымки, распространился на весь город. Шумные кварталы, соборы и палаццо смазались в одно темное пятно, в котором тускло мерцали редкие огоньки. Зато небо сияло яркими крупными звездами, которые, казалось, чуть слышно звенели, словно маленькие лютни. В звездном хоре громче всех вела свою мелодию мать любви Венера.
Галилей вынес в сад витую подставку, сделанную в его мастерской, прикрепил телескоп. Уверенным движением навел трубу на Венеру, отрегулировал резкость. И мать любви перестала быть круглой, изогнулась тонким серпом выпуклостью влево. Цвет серпа казался слегка красноватым.
— Прошу вас, синьоры, — с поклоном пригласил Галилео.
Один за другим к окуляру приникали кардинал, тосканский посол, профессора и богословы. Отец Клавий сначала зажмурился, потом быстро открыл один глаз и ткнулся в трубу. Когда оглянулся, лицо его сияло не хуже Луны.
— Без сомнения, серп! — воскликнул он. — Воистину, ваша милость, вы заслуживаете великой похвалы, ибо вы первый, кто это наблюдал.
Галилей молча кивнул. Он следил за Лагаллой, который дольше других задержался у телескопа.
— Никакого серпа не вижу, — решительно сказал профессор. — Вижу крест, причем вертикальная балка красноватая, а горизонтальная имеет голубой оттенок. Это лишний раз подтверждает мои слова о том, что линзы значительно искажают далекие светящиеся объекты. Одни видят серп, другие диск. Я вижу крест!
Галилей на секунду растерялся. Судя по голосу, профессор не лгал. В чем дело? Телескоп исправен… Значит, не в порядке глаза Лагаллы!
— Позвольте спросить, ваша милость, вы пользуетесь очками?
— У меня сильная близорукость! — погордился Лагалла.
— Все понятно. Телескоп настроен не по вашим глазам. — Галилей чуть-чуть вдвинул трубку с линзой. — Смотрите.