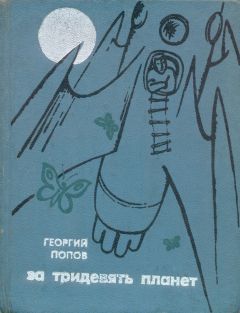Местные жители (их зовут австралийцами) спокойно купаются среди крокодилов и даже залезают к ним на спину.
Однако хватит о загадках. Нам пора вернуться во двор детского сада, где беспечная малышня продолжает бегать, прыгать, словом, выделывать всякие штуки.
— Кстати, вы Ивана Павлыча не видали? — спросил я, не обращаясь ни к кому в отдельности.
— Да только что был дома, — ответила старшая, что советовала жениться. После я узнал, что она имела в виду не кого-нибудь, а именно Фросю, которая, по общему здешнему мнению, засиделась в девках.
— Вот и отлично! Он мне, знаете, до зарезу нужен, — сказал я, направляясь к воротам.
— А вы прямо, вот по этой дорожке, — заметила старшая, показывая на дорожку, что вела в соседний двор.
«Прямо так прямо», — подумал я и пошел прямо.
Дорожка упиралась в стену желтой акации, которая, должно быть, служила живой оградой. Я без особого труда преодолел это препятствие и сразу очутился во дворе, заросшем травой-муравой. Между прочим, дом и двор ничем не отличались от дома и двора тетки Сони… Лишь на крыше торчал флюгер, показывая направление ветра. Потом мне сказали, что этот флюгер является единственной приметой, по которой узнают, где живет председатель.
«Делу — время, потехе — час», — говорили еще при царе Алексее Михайловиче И тут мною овладел страх. Подойдя к крыльцу, я остановился и вдруг почувствовал, что колени дрожат.
«Ну, Эдя… Полно… Нельзя же так!» — подбодрил я себя и поставил ногу на среднюю ступеньку. Однако колени продолжали дрожать — чувство противное, доложу я вам, — и мне ничего не оставалось, как снять ногу обратно.
Я постоял, переминаясь, мысленно убеждая себя, что ничего страшного нет, в конце концов до корабля недалеко, как-нибудь доберусь и — будьте здоровы, потом опять поставил ногу на среднюю ступеньку и перешагнул через порог.
— Кто там? Входите! — послышался голос Ивана Павлыча.
И этот голос точно подстегнул меня. «А, будь что будет!» — подумал я, направляясь в прихожую, а из прихожей — в горницу, где сидела вся честная компания. И хотя батя Петр Свистун, учитель истории Андрей Фридрихович и председатель Иван Павлыч ждали меня (ожидание было написано на их лицах), мой приход застал их врасплох. Они, все трое, как бы впали в шоковое состояние. Дышать и то, кажется, перестали.
— А, Эдик, ну проходи, проходи.
Гляжу, встают и батя, Петр Свистун, и учитель истории Андрей Фридрихович.
Замечу, что здешний Петр Свистун крупнее того, земного Петра Свистуна. И ростом выше, и в плечах шире. Когда он встал — в шортах и рубахе с короткими рукавами, — я подумал: «Этот зажмет между ног — не вырвешься», — и почувствовал, как мурашки пробежали по всему телу.
Учитель истории тоже был похож и не похож на нашего, земного учителя истории. Наш, земной Андрей Фридрихович в общем был уравновешенным человеком. Разозлить его, вывести из себя было почти невозможно. И смотрел он хотя и строго, но вместе с тем как будто и доверчиво. А этот, здешний Андрей Фридрихович не смотрел, а как бы проникал в самое нутро, и тебе начинало казаться, что он все-все знает. Хотелось упасть перед ним на колени и умоляюще воскликнуть:
— Виноват! Каюсь! Пощадите! — И — не вдаваться в подробности, даже не думать, виноват ты на самом деле или это тебе показалось.
Но я, разумеется, не упал на колени и не стал каяться. Пусть это делает здешний Эдька Свистун, думаю, а мне начхать. К тому же голова моя в то время была занята другим. Я не виделся с отцом месяца три (то есть не я, а здешний Эдька Свистун, но это неважно) и, по существующим здесь правилам, должен был вести себя, как страшно истосковавшийся сын. Я так и сделал. Когда Петр Свистун встал и подался на шаг, я бросился к нему, обнял его обеими руками, потерся щекой о его щеку.
— Батя, здравствуй! Ты не представляешь, как я рад, что ты приехал! пробормотал я довольно невнятно.
— И я…
Голос здешнего Петра Свистуна показался мне каким-то незнакомым или, вернее, мало знакомым.
У моего бати густой, сочный баритон, а у здешнего бас. Когда он открыл рот и заговорил, я подумал, что над ухом у меня прогудел растревоженный пчелиный рой.
— Как дома? Сестрица Шарлотта жива-здорова? — продолжал я, ожидая удобного момента, чтобы вырваться из отцовских объятий. Тереться щекой о наждачную щеку здешнего Петра Свистуна не доставляло мне никакого удовольствия.
— И мать, и сестра… — Петр Свистун наконец разомкнул руки. Потоптавшись еще немного, он отошел на шаг или два и сел в кресло.
И только тут до меня дошло, что я дал маху. Скорее всего, планет, где все, как у нас, не существует в природе. Моя мать умерла от рака пять лет назад, я тогда кончал восьмой класс. А здесь… а здесь она жива и здорова.
То же, кстати, и с дедом Макаром. Незадолго до отлета (я жил тогда в Звездном городке) я получил письмо от тетки Сони, из которого узнал, что дед Макар, увы, преставился. Кажется, на девяносто девятом году. А здесь он жив-живехонек и помирать не собирается. Вчера я встретил его в проулке. Он шагал с озера Песчаного, волоча на кукане щуку.
— Эдька, здравствуй! — Он вскинул руку вверх.
Я ожидал, что он ударится в воспоминания, как это сделал бы наш, земной дед Макар, — нет, только улыбнулся, сказал что-то насчет дождя и двинулся дальше.
— Очень рад, — сказал я, имея в виду мать и сестру.
— Велели кланяться, — добавил Петр Свистун.
— Да, да, при мне дело было, — подал голос и Андрей Фридрихович.
Я даже вздрогнул от неожиданности. Это был голос нашего, земного Андрея Фридриховича, я узнал бы его среди тысяч других. Было в нем что-то такое, что заставляло думать: «Силен человек!» Помню, однажды я зачитался до полуночи и в школу пришел совершенно разбитый. Голова трещала. Я думал усну за партой. Не тут-то было! Первым уроком была история.
Андрей Фридрихович вошел, скользнул взглядом по мальчишечьим и девчоночьим головам, пробормотал что-то нечленораздельное: «Гм-гм!» — или что-то в этом роде, произнес первую фразу:
— Итак, на чем мы с вами остановились.
Кто-то бросил с задней парты, что остановились мы на Борисе Годунове.
— Итак, — продолжал Андрей Фридрихович пронзительным голосом, который не гармонировал с его фигурой и всем видом, — итак, Борис Годунов — это такая личность, которая издавна привлекала историков (Карамзина, например) и неисториков (Пушкина, например)… — И пошел, и пошел… Голос Андрея Фридриховича крепчал, становился раздражительнее и пронзительнее с каждой минутой… У меня и сон пропал!
И еще, помню, во время перемены мы окружили Андрея Фридриховича и кто-то сказал: — Борис Годунов, конечно, фигура, а вообще-то России не везло на царей!