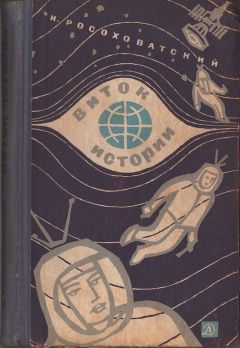Я думал о себе и о ней. Только о себе и о ней, а не о том, что нас окружает. В прежние далекие времена мы не умели так думать. Столько времени уделяли различным вещам, что они становились как бы частью нас самих. Мы даже вспоминали кого-нибудь в определенном костюме или за определенным занятием и не умели вспомнить только его самого, без вещей и обстоятельств. Человек тогда учился создавать вещи, его жизнь становилась благоустроеннее, но это еще не означало счастья.
Мы не могли тогда ощущать себя и других как единое целое. Не знали, сколько в каждом из нас живет людей и каковы они. Часто не знали, кого из них предпочесть. И не умели сделать так, чтобы человек в нас постоянно побеждал зверя. Теперь зверь загнан далеко, в очень незначительные уголки нашего существа. Остались в нас люди, но люди разных эпох.
Важно, чтобы завтрашний человек постоянно побеждал вчерашнего. Тогда не будет «я» и «они». Этому мы учимся всю жизнь.
Но можно ли научиться быть счастливым? Очевидно, мы с Майей так и не научились…
Между нами впервые за сто тридцать лет совместной жизни пролегла полоса отчуждения. Что было в ней? Неясные мрачные тени, не имеющие очертаний. Почему так случилось? Может быть, потому, что я думал о Майе так, как будто она была частью меня, а не самой собой. И как будто у нее не оставалось тайн, своих собственных тайн, как тогда, когда она была еще не моей женой, а лаборанткой, бьющей посуду. И, возможно, сейчас я просто должен был проникнуть в ее тайну, разгадать эту забытую и вновь открытую Майю.
С каждым месяцем отношения становились все более натянутыми, и самым страшным было то, что я не знал причины. Я прошел лечение радиосном, и кошмары больше меня не беспокоили. И все же Майя явно остерегалась меня. Из-за того ли, что боялась повторения снов, или же в моих поступках было что-то предосудительное?
Я начал следить за собой, за своими жестами, словами, но ничего странного в них не нашел. А если со стороны виднее? Несколько раз пытался объясниться c ней начистоту. Она отмалчивалась, отводила глаза, бросала, как нелюбимому, холодные успокоительные фразы.
Майя стала очень медленно работать, часто проверяла одни и те же результаты. Однажды спросила меня:
— Что означает слово «нукопропор»?
— Нукопропор? — Я тщетно пытался вспомнить.
— Ну да, — нетерпеливо сказала она, исподлобья бросив подозрительный взгляд, — ты часто произносишь его.
Я готов был поклясться, что слышу это слово впервые. Холодок пополз от шеи к пояснице, как будто с дерева упал за воротник комок снега.
А через несколько дней я проснулся поздней ночью. Сквозь прозрачную крышу светили звезды. Я подумал: может быть, мы стремимся в далекие миры инстинктивно, потому что споры занесены оттуда. Так неудержимо стремятся рыбы туда, где были когда-то отложены икринки, из которых они родились. Незваный гость — тревожное предчувствие застучало в мой висок еще раньше, чем я услышал непонятные звуки. Прислушался. Различил жалобный плач, всхлипывания. Затем в ночной тишине отчетливо раздался протяжный стон отчаяния.
Я вбежал в галерею-сад и увидел Майю. Она сидела под деревом, раскачиваясь, обеими руками сжав голову. Увидев меня, попросила сквозь слезы:
— Не смотри на то, что стоит передо мной.
Я, конечно, выполнил бы ее просьбу, как это и надлежало сделать каждому из моих современников. Но она прозвучала слишком поздно. И я успел заметить, что перед Майей стоял аппарат для детей, начинающих обучение.
* * *
— Степ Степаныч! — окликнул я.
Человек не изменил своей величественной походки, не обернулся. Я уже начал сомневаться, он ли это, но на всякий случай решил догнать и убедиться.
— Степ Степаныч, да что с тобой? — тревожно спросил я, загораживая ему дорогу.
Он помахивал прутиком перед собой и шел прямо на меня, не собираясь сворачивать.
— Степ Степаныч! — Это прозвучало как заклинание.
Он остановился передо мной так близко, что были видны поры на коже его лица, и оглушительно захохотал, как мне показалось, довольный своей шуткой.
— Чему это ты радуешься? — с упреком спросил я.
— Да как же, — давясь смехом, ответил он, — все называют меня Степкой, а ты Степ Степанычем. Мне лестно.
И он вдруг подпрыгнул и больно хлестнул меня прутиком по плечу.
— А ну, давай на шпагах! — предложил он, становясь в позу фехтовальщика.
Я застыл в полной растерянности, не зная, как относиться к его поступкам и словам. А он зашептал громко:
— Я знаю, как спастись. Это очень просто. Поешь волчьих ягод — и вернешься в детство.
В его буйных волосах застряло несколько длинных пластмассовых стружек. Когда он мотал головой, они разворачивались и вновь сворачивались в кольца, нагоняя на меня страх.
— Слушай, — шептал он. — Мы считаем старость патологией. А почему не считаем патологией детство, ведь наша психика в детстве чем-то похожа на психику старости? О, мы великие хитрецы, но я наконец-то обманул всех. Я стал дурачком. И поймал за хвост жар-птицу.
Он запрыгал на одной ноге и забормотал:
— К черту, к черту все лаборатории, все опыты! Мне ничего этого не нужно. Ни лунного филиала, ни «копейки». Только хлеб и воздух. Поверни кубик другой стороной — и ты увидишь другой кусочек рисунка. Но ты не увидишь всего рисунка. Это невозможно. Я не хочу быть ни умным, ни бессмертным. — Его лицо кривилось в хитрой гримасе. — Мне надоела наука. Это она погубила меня. И она погубит все живое. Знаешь, в чем состоит великая истина, которую я открыл? Никому не говорил — тебе скажу. Человек не должен узнавать ничего с помощью приборов. Только то, что принесут органы чувств, — его достояние. Пусть он лучше смотрит в себя, прислушивается к урчанию своего голодного брюха, а когда оно наполнено, пусть станет более чутким и отыщет в себе душу. Это даст ему успокоение. А если он не сможет наполнить брюхо без помощи приборов, пусть убьет соседа и заберет его еду. Но убьет его без оружия, только руками и зубами. Понимаешь?
Он шагнул ко мне, и я поспешно сделал два шага назад. А он схватился за голову и закричал:
— Хочу быть животным и ни о чем не думать! Хочу только чувствовать! А если нельзя животным, то хотя бы верните меня в детство, чтобы я мог начать все сначала. Я бы никогда больше не раскрыл книгу, убил бы учителей, поджег школу. Я бы жил одной жизнью с природой — истина в этом!
Он задрал голову и посмотрел в небо.
Я понял: он сошел с ума.
Степ Степаныч сорвал с дерева листок и начал рассматривать его на свет. Потом растер и понюхал. Я услышал его бормотание: