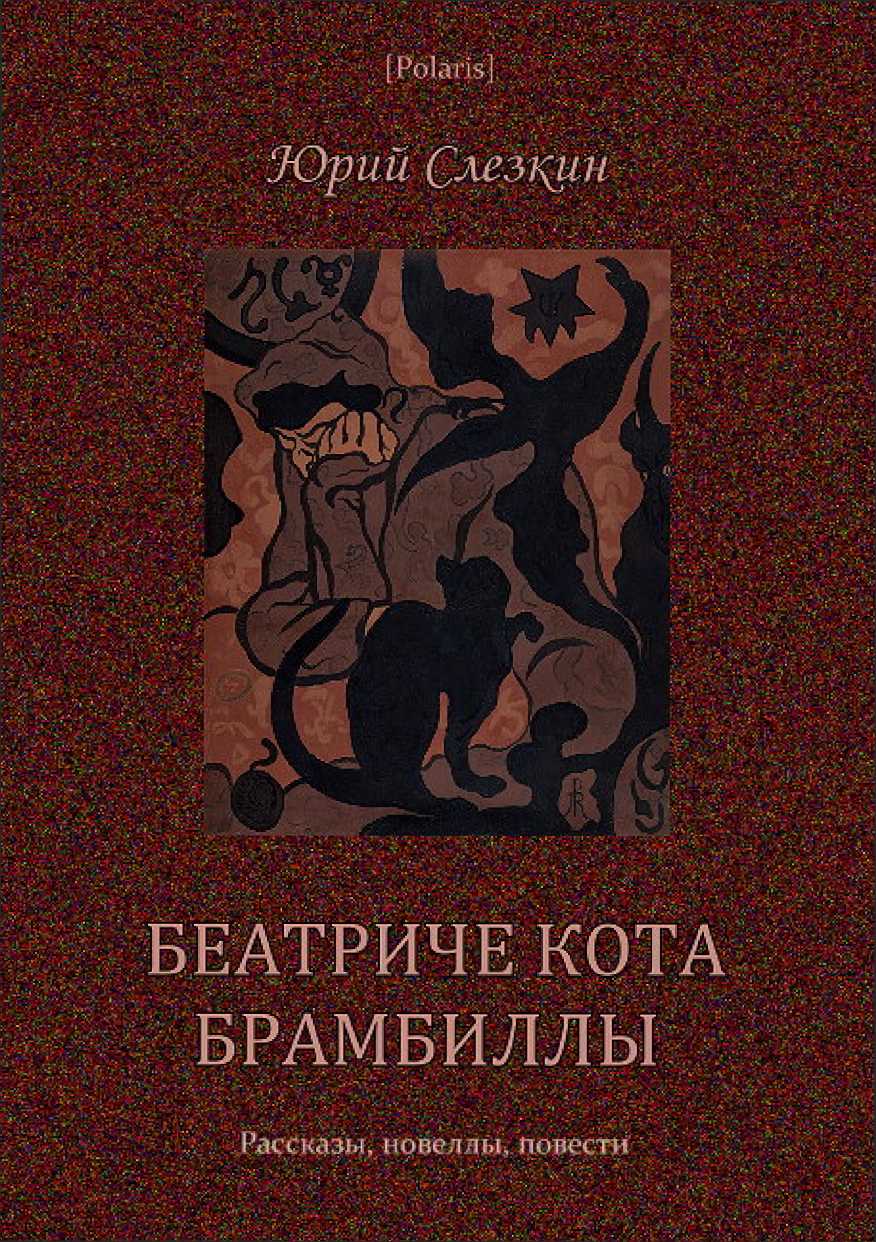Он приветливо встал мне навстречу и протянул руку.
— Как здоровье вашего батюшки? — тотчас же спросил он меня и, усадив в кресло, стал расспрашивать о войне и планах моих на будущее. Я, по мере возможности, удовлетворил его любопытство, с тоскою и надеждою поглядывая на дверь, ведущую в дом.
Князь был свеж, румян, плечист, и все еще, несмотря на свои пятьдесят лет, хорош собою. Седина густых и в меру длинных волос его придавала ему ласкающую величавость. Он невольно располагал к себе, и тем более привлекательной и недоступной казалась мне княгиня. Такого мужа нельзя было не любить и не уважать.
Время шло чрезвычайно быстро, а княгиня все не появлялась. Исчерпав все темы разговора, я с тоскою думал, что так и придется мне покинуть усадьбу эту, не повидав княгини. Помедлив еще немного и поблагодарив за разрешение охотиться на озере, я приподнялся с места, как внезапно по дорожке раздались легкие шаги и на ступеньках террасы я увидал хозяйку дома.
Она издали улыбалась мне, точно давнему знакомому. При виде ее улыбнулся и князь. Когда же княгиня протянула мне руку, а я почтительно поцеловал ее, князь промолвил:
— А я и забыл, что вы уже знакомы. Моя сумасбродная рассказала мне о вашей встрече.
Я вспыхнул от смущения, припомнив, в каком виде застала меня на озере княгиня. Мне почему-то казалось, что необычайное это знакомство наше должно было храниться в тайне.
Княгиня подошла к мужу и склонилась сзади над его плечом. Князь взял ее руку и любовно пожал ее. Все еще пылая, я стал раскланиваться, ссылаясь на неотложные дела. Но княгиня прервала меня на полуслове.
— Полноте, что за дела? Вы останетесь у нас обедать, а теперь пойдете со мною кормить карпов. Вы увидите, какие они у нас большие.
Князь подтвердил в свой черед:
— Конечно, молодой человек, не заставляйте себя упрашивать, не женируйтесь. Ступайте в сад, а я пока займусь кой-чем у себя в кабинете. До встречи за обедом!
Мне ничего не оставалось, как повиноваться.
Я шел следом за княгинею по дорожке, усыпанной песком, невольно стараясь попасть на след, оставляемый быстрой и маленькой ножкой.
Княгиня не переставала щебетать, перескакивая в разговоре с одного предмета на другой. Я едва успевал следить за ходом ее мыслей. Она оказалась весьма начитанной и большой любительницей поэзии. Гоголь казался ей несколько грубым, Пушкина она боготворила, а Лермонтов приводил ее в трепет. Она сетовала на то, что романтизм уходит из нашей жизни, что нравы грубеют, и что устройство карьеры и любостяжание занимают современную молодежь более любви и жажды подвигов.
— Вы не способны на жертвы, — повторила она несколько раз с печальным вздохом, — нет, вы на них уже более не способны…
Она села на скамью у бассейна и, мечтательно склонив голову на руки, пристально смотрела на гладкую прозрачную воду. Я старался уверить ее в противном: доказывал, что многие молодые люди готовы на самопожертвование, на пламенную, бескорыстную любовь, как только им случится в жизни своей встретить олицетворение их идеала. Невольно я увлекся своими словами, распалился и точно почувствовал в себе необычайную способность к любви и подвигам.
Солнце калило мне спину, а я не замечал этого, горло мое давно пересохло — я удваивал свое рвение. Наконец, истощив всю силу своей убедительности, все доводы, я замолчал, не в силах больше произнести ни слова. Ко мне вернулась способность видеть окружающее. Мне стало нестерпимо жарко и неловко. Княгиня глядела на меня с печальной полуулыбкой, глаза ее блестели влажным блеском и пристально смотрели на меня. Щеки мои от этого пылали еще ярче.
— Вы очень молоды, — наконец сказала она, — в вас много чувства и пылкости, но огню ваших желаний нельзя довериться: огонь погасает так же быстро, как и загорается. Для любви и подвигов нужны огненное сердце и стальная воля. От огня сталь становится крепче. Но я верю, что с годами пылкость ваша умерится, но упорство возрастет. Счастлива тогда будет та, которую вы полюбите — ничто в жизни не будет ей страшно. Но, увы, таких, как вы, все меньше. Все чаще встречаете вы людей разочарованных и равнодушных, разочарованных — от слабости, равнодушных — от пустоты сердца. Все хотят быть Печориными, не имея ни его ума, ни его страсти. Берегите в себе тот огонь, что еще горит в вас, и не страшитесь казаться молодым. Что может быть лучше молодости?…

При этих словах княгиня протянула мне свою руку, и я бережно, как к святыне, прикоснулся губами к ее пальцам, унизанным кольцами. Я все еще казался себе романтическим героем, и сердце мое взволнованно билось. Подняв лицо свое от руки княгини, я увидал, что княгиня плачет. Губы ее продолжали печально улыбаться, но в углах глаз замерли две слезы.
— Что с вами, княгиня? — испуганно вскрикнул я. — Уж не я ли причина этих слез?..
Но она быстро поднялась со скамьи и ответила поспешно:
— Ах, прошу вас, не обращайте внимания. Слезам этим нет причины. Женщины так непостоянны в своих чувствованиях: вот видите, я уже смеюсь.
И княгиня, точно, начала смеяться весьма искренне, и слезы высохли мгновенно на ее лице.
Недоумевая, я последовал за нею по извилистым дорожкам сада, но более не мог вернуть недавнего своего воодушевления. Княгиня, напротив, казалась вполне спокойной. Она задавала мне тысячу вопросов, я отвечал ей сбивчиво и односложно. Так прошло еще некоторое время, и вскоре звон колокола возвестил нам о том, что пришло время обеда.
Лакей отвел меня в комнату, где подал мне воды, и я, умывшись, несколько пришел в себя. Выйдя в столовую, я застал там князя и незнакомого мне господина, одетого с большим тщанием и вкусом. Князь назвал мне его Андреем Вениаминовичем Лавровым. Он оказался помещиком и любителем живописи.
Впоследствии я мог убедиться, что он и точно был большим знатоком этого искусства. В имении своем он устроил живописные классы, о его коллекции картин знали и в столице. Говорил он медленно, но внятно, не двигая руками и не поворачивая головы. Высокий лоб его был прикрыт светлой прядью волос, весьма необильных на круглом его черепе. Начисто выбритое, по моде прошлого царствования, лицо его отличалось бледностью своею, резкостью черт и выразительностью. Верхние веки тяжело опускались над внимательными серыми его глазами. Ему можно было дать около сорока лет.
Сперва он мне не понравился, потом я его заслушался, а впоследствии стал уважать его. Напротив того,