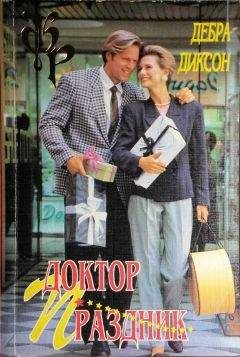Если бы это был фанатизм, тот, привычный ей, тупой и упертый. Так ведь нет! Это была вера, наполнявшая его до кончиков волос. Вера же внушала ей безотчетное уважение. Но тут уважение мешалось со злостью, тем более глупой, что с Судией, по сути, все ясно: воин, варвар, то, что ему кажется добром, навяжет другому силой, если иссякнут слова. Чего еще от него ждать? Странно, что ее не злил ШъяГшу, хотя был верующим еще почище Судии: одно Море чего стоит! Море было одним из Великих Снов наравне с Ровной Землей, тучной и мягкой, Небесной Дорогой (чтобы летать без крыльев)... Великим Сном была и Звезда Полудня - она, ШъяЛма. И она сбылась первой, хоть и не так, как увиделась в древности пророку. Теперь ШъяГшу шел к Морю по Ровной Земле. Его не заботила чужая вера. Не то, что истового Судию. А ведь и у того есть Сны Эрусалем, Париз: долговязые зубчатые башенки на миниатюрах - Нотр-Дам, для Бреона равный храму Соломона. И все-таки, почему у этой идеальной пары из рыцарского романа нет детей?
Рыжие волосы гостя сияли так, словно в них запуталось лучами полуденное солнце. Бреон опасался бы за жену и ревновал ее к Лиану Пламеннику, если бы Этельгард не знала Лиана с отрочества. А нынче Пламенник явился и вовсе из-за ШьяЛмы: ему требовалась история для новой баллады. Впрочем, думы о балладе не мешали трубадуру щуриться на каждую юбку. А девки, чуя горячий Лианов глаз, сбивались с усердной рысцы и зазывно зыркали через плечо, вертихвостки, чем злили Бреона - сучьих свадеб он не терпел. Обед уже миновал, и гостю пришлось подкрепляться в одиночестве. Чтобы не скучать, он зазвал к себе пробегавшую мимо дверей служанку, и был вознагражден ворохом сплетен о ШъяЛме: и яйца-то она пьет по полдюжины зараз, и молока целый кувшин выхлебывает - да еще грей его, и в кади полощется дважды на дню - утиральников не напасешься... А из себя рослая, но ледащая: грудки чуть, заду поболе, только весь отсиженный, красный. Лиан только пуще щурил голубые глаза - в их прищуре служанке мстились кущи райские, и она продолжала трещать - лицом-де пленница не вышла, рот как у жабы, а глаз темный, дурной. Языками здешними не владеет... Откровения служаночки свели на нет и без того мимолетное Лианово к оной вожделение. Он закруглил разговор и выпроводил дуреху с миром. Надо думать, служанка по извечной женской привычке ШъяЛму оболгала... Лиан ожидал-таки увидеть истомленную красу. Если она пьет сырые яйца и молоко, стало быть, ее мучает кашель, скорбный спутник покинутых печальниц. Все это славно укладывалось в замысел новой баллады. Бестрепетный и безупречный Рыцарь; его Супруга, воплощенная добродетель; пленная горная Царица. Разумеется, баллада написана от имени Трубадура: влюбленный в прекрасную пленницу с чужих слов, он явился на нее взглянуть. Свидание, любовь, предложение бежать, обменявшись одеждой, побег пленницы. Трубадур сознается в содеянном, Рыцарь заключает его в темницу, приговаривает к казни. Но едва секира занесена, горная Царица всходит на помост: она хочет принять христианскую веру и венчаться... Словом, ШъяЛма просто обязана быть красавицей! Для этой красавицы Лиан полдня убил на туалет, и даже окатил водой кудри, памятуя о чистоплотности ШъяЛмы. Медные локоны отяжелели в змеиных извивах, лицо стало уже и как будто старше. Он никогда так не нравился сам себе, как сегодня. Жаль, что пленница не поймет его песен. Но пусть Бреон - или лучше Этельгард, она ценительница изящной словесности - ей перетолмачат. Он подтянул струны на лютне и арфе, и сошел в залу. Там уже вовсю ревел огнем камин - Лиан мог бы войти под его свод, не пригибаясь. В сердце шевельнулась печальная зависть: младшему сыну не видать замка с таким камином. У огня одиноко восседала Этельгард. Ее полускрытое тенью лицо походило на маску Двойственности из миракля. Но у Двойственности и платье должно быть двухцветным, а на Этельгард было все белое - даже башмачки. Лиан поцеловал даме подол и руку: ее совершенная красота и добродетель вызывали у него только почтение. - Рада видеть тебя, Лиан! Садись к огню. Не отведаешь ли горячего вина? Неспешно потягивая напиток, и перебирая в памяти достойные упоминания новости, он спросил, где Бреон. Тот, оказывается, уламывал ШъяЛму. Вот, стало быть, как? Судия принимает в ней участие? Поглядим... Может, стоит изменить замысел баллады? Завязавшуюся беседу прервал приход Бреона и ШъяЛмы - она шла чуть позади Судии, косо подбирая на животе просторный суконный блио. Красива? Некрасива? Лиан не мог решить. Черные брови, гнутые, как горские мечи, густо подведенные лазурью глаза, пунцовый рот поразили его. Разумеется, он понял, что на ней - краска. Но тут краска не скрывала изъянов или отметин возраста; она лежала на живом лице, как еще одно лицо, и обоим лицам одинаково пристали одни и те же глаза - очень темные и блестящие. Определенно, в них крылся смех, но ни на одном из лиц не было ни следа улыбки. По ходу беседы Лиан все чаще косился на пленницу. Чужая. Словно окутана иным воздухом поверх одолженного платья и чистейшей, как жемчуг (и где нахваталась!?), вульгаты. И как нехотя поддается течению здешней жизни! Ведь могла не выйти. Но отчего-то послушалась Бреона верно, чужеродство дает ей свободу играть людьми, как болванчиками из шахмат, в которые он, Лиан, всегда проигрывал! Певец большим глотком прикончил питье. Он был разгневан: живая ШъяЛма одним своим видом убила придуманную! Надо ли говорить, что голос его звучал излишне резко, и струны противились неласковым пальцам. На середине третьей песни ШъяЛма, склонившись вперед, раскашлялась, и Бреону пришлось проводить ее до дверей. Лиан готов был поклясться, что она раскашлялась притворно! Еще три песни, новых, чтобы побаловать Этельгард, и довольно. Сославшись на головную боль, он отправился к себе. Мимо пробежала служанка - та самая, с которой он беседовал за обедом. "Эй, милочка!". В красных отблесках факела ее мордашка засияла дикой розочкой. Но Лиану опять было не до нежностей. Гнев пух в груди, тесня дыхание. Гордячку с разрисованным лицом хотелось самое меньшее отодрать... Отодрать! Непристойный смысл слова состроил все мысли на один лад. "Милочка, загляни ко мне на минутку, я у тебя еще кое-что хотел спросить...". Она пошла овечкой. "Не одолжишь ли ненадолго свое платье, хочу устроить шутку к общему удовольствию..." Он был на полголовы повыше покладистой милочки - из-под юбок виднелись алые башмаки, но прочее было безупречно: женщиной он наряжался не в первый раз. А лицо - да нахлобучить чепец поглубже. Стражи на пороге ее покоев таки спросили, что надобно. Соврал тонким голосом, что де господин Бреон велел узнать, как заложница себя чувствует. Пустили. Два смежных покойца. В первом - пусто. Вот и славно. Он натянул перчатки женщины иногда начинают кусаться. Вожделение и гнев дошли до предела. ШъяЛма расплетала косицы, сидя на широком ложе. Меховые покрывала были отвернуты. Возле узенького беленого камина исходила паром кадь с душистой водой. Она подняла глаза на звук шагов. Он прыгнул к ложу, зажал ей рот, опрокинул навзничь, с удовольствием ощутил, как зубы беспомощно прикусили перчатку. Скорее навалиться на нее, пока не сжала колен, и ее же подолом заткнуть ей рот. Что? За руки хватать? Ах ты... Но она упорно оттягивала его правую руку в сторону, словно распинала его на себе; мелькнули темные глаза - без тени страха. И в нос ударило - как кувалдой! От боли он света Божьего не взвидел, и тут новый удар пришелся между ног.