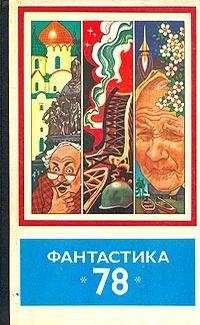— Нету, значит? — понял Яков Борисович. — А вечером он будет?
«А куда он денется?» — подумал Оливье, и хоть снова ничего не сказал, но Яков Борисович его опять-таки понял.
— Тогда я вечером зайду, — заключил Яков Борисович, и поскольку свое: «А зачем ты здесь нужен?» — Оливье произнес только мысленно, то Яков Борисович спокойно повернулся и отправился домой, радостно возбужденный и все приговаривая: «Его обязательно надо купить!», и даже готов был напевать эту фразу, если бы только умел он напевать, до того она ему нравилась.
И еще одна маленькая радость посетила его, когда он обнаружил, что бумажка, которую все это время мяли, но смяли не чрезмерно его пальцы, не просто бумажка, а чек из магазина на кефир. Действительно, как тут не обрадоваться, ведь мог же и выбросить впопыхах-то целых тридцать копеек, и заспешил энергично Яков к магазину, и успел до начала перерыва, и получил свой кефир без проволочек, и домой он пришел уверенный, что все ему удается и что судьба, у которой до сих пор все благодеяния приходилось буквально выцарапывать, кажется, становится наконец к нему благосклонной.
— Видал? — спросил вечером Дима, проводив Якова Борисовича. — Твою голову оценили в семьсот рублей! Интересно, откуда у этого замухрышки такие деньги?
Как видим, не только нас заинтересовало происхождение денег Якова Борисовича. Ничего, скоро и ОБХСС заинтересуется, а вот Оливье к их родословной отнесся равнодушно.
«Не важно «откуда», — изрек он, — но важно «куда»!»
— Ну, ты излагаешь! — восхитился Дима. — Эдак мне придется начать писать книгу: «Оливье. Афоризмы и максимы». И кстати, что ты имеешь в виду?
«Я имею в виду…» — начал Оливье, но следует объяснить, каким именно образом он начал.
С того вечера, как Оливье заговорил, или, вернее, записал, и тем самым состоялось Великое Пробуждение Собачества, и на Земле появился второй вид разумных существ — Канис Сапиенс, говорить, или писать, Оливье приходилось много. Настолько много, что от машинки друзья при прямых беседах вскоре вынуждены были отказаться; они перешли на морзянку, которой Дима, в прошлом радиолюбитель, владел более-менее сносно, а Оливье очень скоро овладел в совершенстве и стал отбивать точки-тире что лапой, что хвостом со скоростью не меньшей, чем у любого радиста-виртуоза, способного отбить и принять черт знает сколько знаков в минуту. Ну а от Димы виртуозного стука и не требовалось, он говорил нормально, а в общем, уже через пару недель друзья овладели своим способом общения настолько, что стали разговаривать совершенно свободно на любые темы — запас слов у Оливье оказался достаточно большим, память и восприимчивость великолепными, и читать книги он выучился с той же стремительностью, с какой делал вообще все, что делал, пользуясь для этого специальным пюпитром и листая страницы языком.
Первое время друзья просто радовались, что наконец-то поняли друг друга, и эта радость помогала преодолеть неизбежные начальные трения, вызванные превращением вещи в субъекта. Трения, а вернее, малюсенькие толчочки, возникали по поводам самым разнообразнейшим, скажем, уже в первый вечер Оливье попросил Диму не курить, по крайней мере, в комнате, и Дима едва не вспылил, но сдержался, погасил сигарету. Не склонный к самоанализу, Дима не задумался над причинами своей сдержанности, просто приписал ее к своим достоинствам, и успокоился — Оливье пришлось тяжелее. Куда более чувствительный и рефлексивный, он мгновенно понял, что основа сдержанности — страх. Да, да, самый вульгарный страх — не забывайте о размерах Оливье и о том, что теперь он уже не был автоматом, запрограммированным на слепую любовь и безусловное подчинение, но был существом со своими запросами и свободой воли! К счастью для себя, Дима не полез в такие тонкости, к несчастью для себя, Оливье для того, чтобы чувствовать такие тонкости, никуда не надо было лазить… Состояние его легко себе представить — вообразите только, каково бы вам пришлось, если бы самое любимое вами существо хоть на мгновение, хоть безотчетно, но испугалось вас, и притом именно ваших зубов и когтей!
К счастью, существо, в данном случае Дима, ничего не заметило ни в себе, ни тем более в Оливье, чья мимика была для Димы одинаковой и непонятной почти совершенно. Столь же быстро, сколь мимолетным был страх Димы, Оливье все это осознал, убедился в своей закрытости для Димы, то есть, вообще говоря, в своем преимуществе, и от этого ему стало еще хуже, но вскоре все утряслось и успокоилось, и в дальнейшем отношения стали складываться по формуле, предложенной Оливье, но устраивающей обоих: «Мы друзья, но ты командир».
Итак, Собачье Пробуждение состоялось, и настало время подумать об его последствиях и о формах его расширения, и на этом этапе Дима проявил больше осторожности и предусмотрительности, не стал трезвонить по всем углам, что вот, дескать, появился у меня говорящий пес, сам, дескать, научил, но порешили они с Оливье первое время сидеть тихо, а Дима пусть разнюхает мнение специалистов на сей счет. Словом, к рекламе Дима не спешил, помня, что еще ни один клоун никогда не получал Нобелевской премии и вряд ли когда получит, а Оливье — тот просто не был заинтересован в рекламе, у него не было причин торопиться заявлять о своих новоявленных способностях, но, наоборот, его не оставляло стремление сперва самому получше во всем разобраться.
Мнение специалистов на сей счет оказалось единодушным: «Бред!». Так Диме заявлял любой специалист, какого ему удавалось вовлечь в беседу на эту тему, и специалист по собакам, и специалист по разговорам, и любой другой специалист, в какой бы форме ни пытался Дима преподнести ему свой феномен: в форме ли анекдота, или в форме предположения, или даже просто в форме: «А вот мне рассказывали…» Все равно ответ бывал кратким и удручающим: «Бред!»
— Да, Олюшка, — жаловался Дима вечерами, — не спешат и не поспешат давать нам с тобой Нобелевскую премию, не верят они в тебя, в лучшем случае про рефлексы твердят… А так хотелось бы славы!
— Да, слава — вещь хорошая, — соглашался Оливье.
— Вот видишь! — радовался Дима поддержке.
— Еще как вижу! — подтверждал Оливье.
— А еще, даже покажи им сейчас тебя, так ведь непременно потребуют воспроизводимости, а где я им ее возьму? Как я им докажу, что ты не мутант, не выродок какой-то, а что любую шавку так научить можно?
— Никак не докажешь, поскольку любую шавку научить нельзя. Любого дога в лучшем случае! — Оливье тоже был не лишен тщеславия.
— А! Шавку, дога!.. — Дима отмахивался. — Тебя-то я учил правильно? Вроде да, поскольку ты говоришь… Но, с другой стороны, заговорил-то ты в мое отсутствие!.. Ты сам-то хоть знаешь, как это произошло?