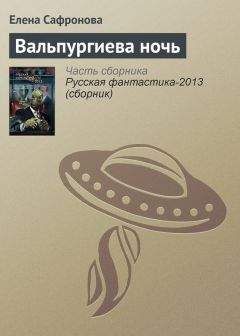– Мурик, сделай корону! – закричала, подскакивая к матери, девочка, сунула женщине пук листьев и упрыгала вдоль аллеи на одной ножке.
– Не ходи далеко! – крикнула вслед мать и занялась рукоделием.
– Слушай! – не выдержал отец. – Но что все-таки с ней случилось! Это же черт знает что такое?..
– Черт, может, и знает, – устало ответила женщина. – Меня больше заботит другое. Меня волнует, что будет с ней, когда я умру.
Отец побледнел:
– Ты думаешь?..
– Да, – шепнула она блеклыми, без помады, губами. Руки ее доплели прекрасную многозубчатую корону, и, увидев это произведение искусства, Дора вприпрыжку понеслась к ним, напевая без слов. Пока она бежала, отец успел сказать:
– Ты прости. Не сердись. И не волнуйся, я деньгами помогать буду. Но я часто приходить не согласен.
Мать снова кивнула.
– Переводи деньги на почту, – посоветовала она. Дора надевала корону и кокетливо спросила у отца:
– Мне хорошо?
– Очень, – ответил он, глядя на дочь погасшими глазами.
Это была банальная дьявольская ловушка, в которую наивная, хоть и 25-летняя Дора с удовольствием попалась. Договор с нечистым был заключен на одну Дору и ею одной подписан. Мать в нем упомянута не была. Ребенок не рос, но мать старела, и годы вокруг них шли так, как им полагалось. И все в России менялось в ту же плохую сторону, какую Дора в прошлой жизни уже наблюдала. Тогда она, эта сторона, ее страшила. Зато теперь вечного младенца не страшило ничто.
5.
Дальнейшая жизнь была похожа на бесконечный пунктир: черные штрихи – существование матери, светлые прогалы – житье Доры. В те годы, когда женщина одна могла прокормить ребенка, эта странная семья не знала нужды. Отец присылал не много, но достаточно, а из матери получилась такая портниха, что от заказов отбою не было. Основная проблема была в том, что мать не ходила на работу, и ее сочли тунеядкой. Стали приходить комиссии. Приходили из школы, затем – из РОНО, затем – из каких-то еще медицинских органов, женщина путала их названия… Все сходились на том, что ребенка, пораженного таким странным, уникальным заболеванием, надо поместить в специальный интернат, где за ним бы ухаживали и наблюдали, а матери пойти работать, как всем советским людям. Мать, чувствуя сердцем суть этих предложений – отдать дочку для опытов, – сопротивлялась, как могла. Это был лес кошмаров, где несчастная бродила кругами, зигзагами, синусоидами и не могла выбраться. В лесу ждали «официальные лица», администраторы, медики, выглядывали из засад соседи, уходили по темным тропинкам, таясь, чтобы не встретиться с нею даже прощальным взглядом, друзья, ночи напролет стрекотала обезумевшим сверчком швейная машинка… И в том же лесу скрывалась небольшая, но такая красивая, уютная, залитая солнечным светом и теплом полянка, где летали бабочки величиной с ладонь, росли цветы, крупные, будто садовые, и резвилась Дора, пухленькая малышка. Радость ее была неподдельна, глаза блестели от счастья – смышленые, горящие глазенки умного пятилетнего ребенка. Не старше. А согласно свидетельству о рождении, Доре скоро должно было стукнуть пятнадцать лет.
Наконец мать, точно черную душную паутину, прорвала сеть непонимания и смогла решить свою проблему. Дору признали инвалидом детства, мать оставили безработной, как ухаживающую за ней, назначили даже небольшую пенсию девочке, но поставили на учет в районной поликлинике и обязали проходить диспансерный осмотр два раза в год, весной и осенью. После этого решения женщина с ребенком остались в относительном покое.
Время шло. Лик его менялся так же, как лицо Дориной матери. В тридцать пять она выглядела на все пятьдесят. К сорока годам стала почти старухой. Но для Доры ее «мурик» был по-прежнему лучше всех других теть.
А облик времени становился все более жестоким. Скоро уже мать Доры узнала, как не бывает в магазинах самых необходимых продуктов, как трудно купить для ребенка сандалики или шапочку. А ведь целью ее существования было одно – обеспечить девочке счастливое детство.
В Москве ввели «визитки» для покупки предметов первой необходимости. Начался голод.
Затем на смену повальному дефициту явилась новая беда. В России начали строить капитализм. Портниха-одиночка сама не заметила, как осталась не у дел. Она не могла ожидать такого, к ней обращались знакомые знакомых со всей Москвы, ее хвалили, рекламировали, делились адресом, не жалели денег… И вдруг шить наряды стало непрестижно, а если и допустимо для господ «новых русских», то не у безвестной московской надомницы, а во всемирно известных домах моделей. И зачем шить, тратить время, ездить на примерки, когда можно пойти в фирменный магазин и выбрать что понравится? А тут еще и отец перестал помогать – все реже приходили переводы, и сам он не встречался с бывшей семьей уже несколько лет. Оставшись без работы, женщина было приуныла… Но, когда она сидела в кухне у стола, уронив лицо в ладони, и бессмысленно повторяла про себя: «Помоги, Господи!», – вдруг детские ножки притопали из комнаты, и Дора полезла к маме на колени, приговаривая:
– Мурик, пойдем гуляньки!..
Женщина посмотрела на свою двадцатидвухлетнюю дочь, внутренне охнула – но сейчас это уже не ранило так больно, как сразу после жуткого открытия… и сказала Доре тем же добрым голосом, какой у нее не могли отнять никакие житейские беды:
– Дорик, мы с тобой скоро гуляньки не пойдем, а поедем.
– А куда?
– А мы поедем в город, где я родилась.
– А где ты родилась?
– Это далеко от Москвы, на юге, где тепло… Он называется Ростов…
Она сама не знала, почему так скоропалительно решилась уехать из Москвы, но никогда об этом не пожалела.
Мать поменяла квартиру в Москве на комнатушку в Ростове, на окраине, в рабочем квартале, взяла доплату, чтобы было чем кормить ребенка в первое время, и они поехали. Поезд казался Доре сказкой, она все бегала по вагону, не в силах угомониться. Пейзажи, бегущие за окном, приводили ее в телячий восторг. Весь вагон умилялся, глядя на чудного, любознательного ребенка, только не все поняли, почему это внучка называет бабушку «мурик». Правда, это мелочь – дети ведь обожают придумывать новые слова!
Приехали. Сидя в троллейбусе, потом в трамвае, который вез их к новому жилью, Дора вертела головой, как Петрушка, глаза ее раскрылись до бровей.
– Мурик, как здорово! – кричала она в упоении. – Мурик, как красиво!
– Потише, Дорик, – говорила стоящая рядом с прелестной девочкой старуха.
Новая квартире Доре не понравилась, потому что дом стоял на пустыре, усеянном отходами стройки, и в округе не было ни парка для гуляния, ни симпатичной улицы, ни фонарей. Зато неподалеку в скором времени расположился рынок, сначала продуктовый, потом и вещевой, куда мать Доры устроилась продавцом. Детским садом для девочки стала грязная площадь и со всех сторон продуваемый ларек. Боясь оставлять Дору без присмотра, мать брала ее с собой, и ребенок сидел в палатке, за спиной матери, на ящике из-под колбасы, хныкал и просил: