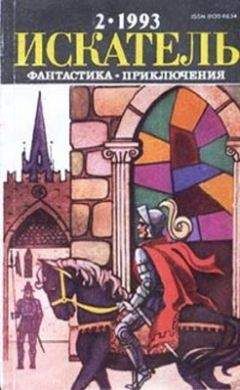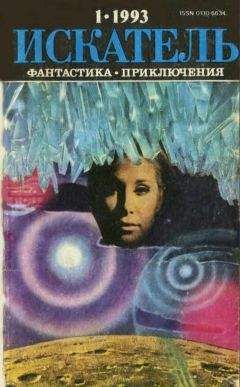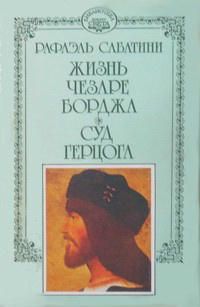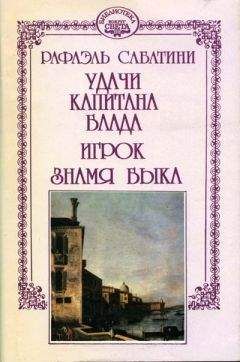— Видишь, Фанфулла, как просто изменить человеку жизнь, превратив его из свободного гражданина в изгнанника. И ты нисколько не любишь меня, если продолжаешь спорить. Или ты думаешь, что перспектива изгнания печалит меня? Нет, юноша, после этого приговора кровь ещё быстрее бежит по моим жилам. Он освобождает меня от обязательств перед Баббьяно в тот час, когда мой долг — остаться с его жителями, ответив тем самым на их любовь. Приговор даёт мне свободу, мой добрый Фанфулла! Теперь я волен делать всё, что мне вздумается, — Франческо раскинул руки и весело рассмеялся.
Фанфулла не сводил с него глаз, заражаясь отличным настроением графа.
— Пожалуй, вы правы, мой господин! Вы слишком красивая птица, чтобы петь в клетке. Но подаваться в странствующие рыцари… — он развёл руками. — Драконов, которые держат принцесс в заточении, больше нет.
— К сожалению, ты прав. Но есть венецианцы, которые стоят на пороге войны. У них найдётся для меня работа.
Фанфулла вздохнул.
— То есть мы потеряем вас. Лучший воин Баббьяно, гонимый безмозглым герцогом, уходит от нас в час беды. Клянусь душой, мессер Франческо, я хотел бы уехать с вами. Тут мне делать нечего.
Франческо, натягивавший сапог, оторвался от своего занятия, поднял глаза на юношу.
— Если ты этого желаешь, Фанфулла, то я буду только рад твоей компании.
Фанфулла сразу ожил. Да и кто на его месте отказался бы от подобного приглашения?
И в третьем часу тёплой майской ночи кавалькада из четырёх всадников и двух тяжело нагруженных мулов покинула Баббьяно и двинулась по дороге на Винамаре и далее, к Урбино. За графом Акуильским и Фанфуллой дельи Арчипрети следовали слуги, Ланчотто и Дзаккарья, которые вели на поводу мулов, нагруженных оружием и пожитками странствующих рыцарей.
Всю ночь скакали они при свете звёзд, а через три часа после рассвета остановились на отдых в небольшой ложбинке меж холмами неподалёку от Фабрано. Расседлали и стреножили лошадей, расстелили на траве плащи, Дзаккарья достал съестные припасы и предложил рыцарям хлеб, жареное мясо и вино. Дорогой они изрядно проголодались, так что простая эта еда показалась им вкуснее изысканных яств. А поев, они улеглись на берегу Эзино — река эта в тех краях скорее напоминала ручеёк, — поболтали о пустяках и заснули. Проснувшись в три часа пополудни, граф направился к небольшой запруде, в нескольких шагах от них, вниз по течению реки, спокойная поверхность которой сияла небесной голубизной, разделся и бросился в воду. Через несколько минут он вышел на берег, бодрый и весёлый.
Пружинистой походкой, стройный, гибкий, с капельками воды, блестевшими в солнечных лучах, словно бриллианты, на лице и волосах, Франческо вернулся в маленький лагерь.
— А теперь скажи мне, Фанфулла, — обратился он к уже проснувшемуся юноше, — есть на свете такой безмозглый человек, который предпочтёт всю эту красоту герцогской короне?
И Фанфулла, видя, как Франческо буквально сияет от счастья, наконец-таки осознал, сколь мерзко честолюбие, лишающее человека данной Богом свободы и всех сопряжённых с ней радостей. Граф тем временем оделся. Красные рейтузы, сапоги, стёганая кольчуга, обшитая грубой тканью, вроде бы тоже предохраняющей от удара кинжалом. Застегнул стальной пояс, на котором в кожаных ножнах висел тяжёлый кинжал. Другого оружия при нём не было.
По команде графа слуги оседлали лошадей, нагрузили мулов. Ланчотто держал его стремя, Дзаккарья — Фанфуллы, и вскоре они покинули гостеприимную ложбинку и двинулись дальше средь зеленеющих полей. Пересекли реку — вода едва доходила лошадям до колен, — повернули на восток, оставив холмы позади, а затем уже выехали на дорогу, которая вела на север, к Кальи.
И когда колокольный звон возвестил о том, что подошло время вечерней молитвы, они подъехали ко дворцу Вальдикампо, где двумя днями раньше принимали Джан-Марию. И на этот раз ворота дворца гостеприимно распахнулись перед знаменитым графом Акуильским, которого мессер Вальдикампо почитал никак не меньше, чем его кузена-герцога. Им отвели просторные комнаты, слуги так и роились вокруг, готовые выполнить любое их желание. В честь Франческо Вальдикампо устроил торжественный ужин. Отношение его к графу нисколько не изменилось после того, как он узнал, что Франческо изгнали из владений Джан-Марии. Выразив сожаление в связи со случившимся, Вальдикампо уже не касался этой темы до самого ужина.
И лишь после еды, расслабившись от выпитого вина, он позволил себе сказать о Джан-Марии всё, что думал.
— Здесь, в моём доме, он измывался над несчастным калекой. Вина за это может пасть на меня, ибо происходило всё под моей крышей, но я ничего и не знал.
После настойчивых расспросов Франческо удалось выяснить, что калека этот — придворный шут Пеппе из Урбино. Тут же перед мысленным взором графа возникла девушка, встреченная в лесу, и её шут, с которыми судьба столкнула его месяц назад, и он догадался, как попали к его кузену сведения, послужившие причиной его ареста и изгнания.
— А что сделал с ним Джан-Мария?
— По словам Пеппе, герцог задавал ему какие-то вопросы, ответить на которые он не мог, связанный клятвой. Джан-Мария распорядился схватить его и тайно вывезти из Урбино. Швейцарцы выполнили приказ и притащили шута сюда. Чтобы заставить его говорить, герцог соорудил в своей спальне дыбу и пыткой добился желаемого.
Лицо графа потемнело от гнева.
— Трус! — пробормотал он. — Жалкая тварь!
— Но вы не учитываете, господин граф, — с жаром воскликнул Вальдикампо, — что Пеппе — немощный калека и с него нельзя требовать молчания там, где заговорил бы и крепкий мужчина. Не судите его поспешно…
— Я не о шуте, а о моём кузене, этом трусливом тиране, Джан-Марии Сфорца, — пояснил Франческо. — Но скажите мне, мессер Вальдикампо, что стало с Пеппе?
— Он всё ещё здесь. Окружён заботой, и самочувствие его заметно улучшилось. Можно сказать, что он совсем поправился, если бы не руки, которыми он не сможет пользоваться ещё несколько дней. Их почти оторвали от тела. Но суставы уже вправлены, и есть надежда, что всё будет хорошо.
Граф уговорил Вальдикампо отвести его в комнату Пеппе. Что тот и сделал, оставив Фанфуллу в компании дам.
— К вам гость, мессер Пеппе, — возвестил седовласый дворянин, открыв дверь и поставив свечу на столик у кровати.
Шут повернул голову, глянул на спутника Вальдикампо, и лицо его исказилось от ужаса.
— Мой господин, — Пеппе попытался сесть, — мой благородный господин, смилуйтесь надо мной! Я бы с радостью вырвал мой проклятый язык. Но вы можете представить себе, какие муки я перенёс, каким пыткам подвергали меня, чтобы заставить говорить, и потому найдёте в душе хоть каплю жалости к бедному шуту.