— Привет, Мэтт. Мы хотим поговорить с тобой, — сказал Куллинан. — Точнее, мы хотим, чтобы ты поговорил с нами.
— Хорошо.
— Не возражаешь, если мы начнем с твоей матери? Расскажи, что ты помнишь о ней. Вернись, так сказать, в прошлое.
— О моей… матери? — Просьба поставила Фолка в тупик, и он почти минуту молчал. Потом облизнул губы и спросил: — Что вы хотите знать о ней?
— Расскажи нам все, — попросил Куллинан.
Новая пауза. Уоршоу затаил дыхание.
Наконец Фолк заговорил.
— Тепло. Приятно. Возьми меня. Ма-ма-ма… Я один. Ночь, и я плачу. Я отлежал ногу, ее покалывают мурашки. Ночной воздух кажется холодным. Мне три года, я один. Возьми меня, мама! Я слышу, как мама спускается по ступеням. Мы живем в старом доме рядом с космодромом, где со свистом взлетают большие корабли. Сейчас приятный мамин запах обволакивает меня. Мама большая, розовая, мягкая. Папа тоже розовый, но от него не пахнет теплом. То же относится и к дяде. «Ау, ау, детка!» — говорит мама и прижимает меня к себе. Это хорошо. Меня клонит в сон. Через минуту-другую я усну. Я очень люблю мамочку.
— Это твои самые ранние воспоминания о матери? — спросил Куллинан.
— Нет. Мне кажется, есть еще более ранние… Темно. Темно, и очень тепло, и сыро, и приятно. Я не двигаюсь. Я один и не знаю, где я. Как будто плаваю в океане. В большом океане. Весь мир — один огромный океан. Здесь хорошо, очень хорошо. Я не плачу. Теперь во тьме возникают голубые иголочки. Цвета… самые разные… красный, зеленый, лимонно-желтый. И я двигаюсь! Боль, толчки и — господи! — становится холодно. Я задыхаюсь! Я упираюсь, но меня тащат отсюда! Я…
— Хватит! — поспешно сказал Куллинан и объяснил: — Родовая травма. Тяжелая вещь. Нет необходимости снова проводить его через это.
Уоршоу слегка вздрогнул и потер лоб.
— Продолжать? — спросил Фолк.
— Да.
— Мне четыре, снаружи дождик кап-кап. Как будто весь мир стал серым. Мамы и папы нет, я снова один. Дядя спускается по лестнице. Я его плохо знаю, но, кажется, он все время здесь. Мамы и папы часто нет. Когда я один, это все равно что попасть под холодный ливень. Здесь часто идут дожди. Я в кровати, думаю о маме. Хочу, чтобы она пришла. Мама улетела на самолете. Когда я вырасту, то тоже полечу на самолете куда-нибудь… где тепло и нет дождя. Внизу звонит телефон, дзинь-дзинь. Внутри головы у меня как будто экран, яркий, полный красок, и на нем я пытаюсь нарисовать мамино лицо. Но не получается. Я слышу голос дяди, низкий, бормочущий. Я решаю, что не люблю дядю, и начинаю плакать. Дядя здесь. Он говорит, что я слишком большой, чтобы плакать. Что я не должен больше плакать. Я говорю, что хочу к маме. Дядя делает недовольную гримасу, и я плачу еще громче. Ш-ш, говорит дядя. Успокойся, Мэтт. Ну вот, ну вот, малыш Мэтт. Он поправляет мне одеяло, но я молочу ногами и снова сбиваю его, потому что знаю, что это раздражает дядю. Мне нравится раздражать его, потому что он не мама и не папа. Однако на этот раз он не кажется раздраженным. Он просто поправляет одеяло и похлопывает меня по голове. Руки у него потные, и пот липнет ко мне. Хочу к маме, говорю я ему. Он долго глядит на меня сверху вниз. А потом говорит, что мама не вернется. Никогда не вернется, спрашиваю я? Да, говорит он. Никогда. Я не верю ему, но начинаю плакать, потому что не хочу, чтобы он понял, как сильно напугал меня. А где папа, спрашиваю я? Хочу папу. Папа тоже больше не вернется, говорит он. Я не верю тебе, говорю я. Я не люблю тебя, дядя. Я ненавижу тебя. Он качает головой и покашливает. Лучше научись любить меня, говорит он. У тебя теперь никого больше нет. Я не понимаю его, но мне не нравятся его слова. Ногами я скидываю с постели одеяло, и он снова накрывает меня. Я снова скидываю одеяло, и он бьет меня. Потом быстро наклоняется и целует меня, но пахнет он неправильно, и я начинаю плакать. Идет дождь. Хочу к маме, кричу я, но мама и правда больше не приходит. Никогда.
Фолк на мгновение замолкает и закрывает глаза.
— Она умерла? — подталкивает его Куллинан.
— Она умерла, — отвечает Фолк. — Они с папой погибли в авиакатастрофе, на обратном пути из Бангкока, где проводили отпуск. Мне тогда было четыре. Вырастил меня дядя. Мы с ним не очень хорошо ладили, и, когда мне испол нилось четырнадцать, он отдал меня в Академию. Там я провел четыре года, потом еще два года изучал технику и устроился на работу в «Земля-Импорт». Два года оттрубил на Денуфаре, потом перевелся на «Магиар», корабль коммандера Уоршоу, где… где…
Он резко умолк.
Куллинан бросил взгляд на Уоршоу и сказал:
— Он разговорился, и мы можем перейти непосредственно к делу. — Потом добавил, обращаясь к Фолку: — Расскажи, как ты встретился с Зетоной.
— Я один в Коллидоре, брожу по городу. Он огромный, беспорядочный, с забавными коническими домами и запутанными улицами, но, несмотря на внешнюю разницу, очень похож на Землю. Люди везде люди. Здешние жители странные, да, но у них одна голова, две руки и две ноги, что делает их больше похожими на людей, чем многих других чужеземцев, которых я видел. Уоршоу дал нам свободный день. Не знаю, почему я ушел с корабля, но я здесь, в городе, один. Один. Один, черт побери!.. Улицы здесь замощены, а пешеходные дорожки — нет. Внезапно я чувствую сильную усталость и головокружение. Сажусь на край тротуара, обхватываю голову руками. Чужеземцы просто проходят мимо, как люди в любом большом городе. Мама, думаю я. И потом: что со мной такое? Внезапно внутри взрывается огромное пустое одиночество, оно затопляет меня целиком, и я начинаю плакать. Я очень давно не плакал. Но теперь плачу, задыхаюсь, хриплю, слезы катятся по лицу и скапливаются в уголках рта. На вкус они соленые. Как будто идет дождь. Там, где меня ранило, возникает боль — начинается около уха и, словно голубое пламя, охватывает все тело до самых бедер. Чертовски больно! А ведь доктора говорили, что боли больше не будет. Обманули, значит. Одиночество кажется мне герметическим скафандром, в котором я замкнут, отрезан от всех. Мама, снова думаю я. Что-то внутри бормочет: «Веди себя как взрослый», но все тише и тише. Я продолжаю плакать и отчаянно хочу, чтобы мама снова была со мной. До меня внезапно доходит, что я практически не знал ее, не считая первых нескольких лет жизни. Потом возникает мускусный, немного тошнотворный запах, и я понимаю, что рядом кто-то из чужеземцев. Сейчасюн схватит меня за загривок и потащит прочь с общественного места, каким является улица, как слезливого пьянчужку. Достанется же мне от Уоршоу! «Ты плачешь, землянин», — говорит ласковый голос. Коллидорианский язык вообще мягкий, текучий и прост в изучении, но эти слова звучат в особенности тепло. Я поворачиваюсь и вижу крупную женщину. Местную. Да, плачу, говорю я и отворачиваюсь. Большие руки опускаются мне на плечи, крепко сжимают их, и я вздрагиваю. Немного странное чувство — когда тебя касается чужеземная женщина. Она садится рядом и говорит: «Ты очень грустный». Так оно и есть, говорю я. «Почему тебе грустно?» Тебе не понять, говорю я, отворачиваюсь и чувствую, как снова начинают течь слезы, и она сильнее сжимает мне плечи. От ее запаха меня чуть не выворачивает наизнанку, однако через несколько мгновений я осознаю, что он сладковатый и в каком-то смысле приятный. На ней платье, делающее ее похожей на мешок с картошкой, от него исходит резкий запах, но она притягивает мою голову к своей большой теплой груди. «Как тебя звать, грустный землянин?» Фолк, говорю я. Мэтт Фолк. «Я Зетона, — говорит она. — Я живу одна. А у тебя есть кто-нибудь?» Не знаю, говорю я. Кажется. На самом деле я не знаю. «Но как можно не знать, есть у тебя кто-нибудь или нет?» — спрашивает она. Она отодвигает мою голову от своей груди, и наши взгляды встречаются. Чистая фантастика. У нее глаза, как тусклые половинки доллара. Мы смотрим друг на друга. Она протягивает руку и вытирает мои слезы. Она улыбается. Ну, я думаю, что это улыбка. Под носом у нее штук тридцать идущих по кругу бороздок, и это рот. Все бороздки сморщены и оттянуты, открывая блестящие зубы, похожие на иглы. Я снова перевожу взгляд на ее глаза, и на этот раз они не кажутся такими уж тусклыми. Они блестящие, как ее зубы, глубокие и теплые. Теплые. И запах у нее теплый. Вся она теплая. Я снова начинаю такать — прямо как маньяк какой-то, сам не знаю почему и что творится со мной. Ее образ расплывается, и мне кажется, что здесь сидит и баюкает меня земная женщина. Я смаргиваю слезы. Нет. Всего лишь безобразная чужеземка. Только она больше не безобразная. Она теплая и прекрасная, пусть на свой особенный лад. Если внутри меня что-то возражает, то этот голос едва слышен. Нет, пытается сказать тот голос, но потом обрывается и замолкает. Внутри раскрывается что-то странное. И я не препятствую этому. Раскрывается, словно цветок, роза или фиалка, и вместо ее запаха я чувствую запах этого цветка. Я обнимаю ее. Хочешь пойти ко мне домой, спрашивает она? Да, да, говорю я. Да!
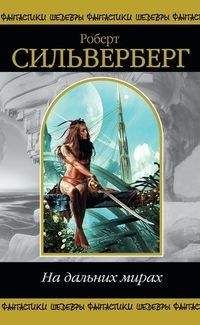

![Вячеслав Шалыгин - Импорт правосудия [сборник]](https://cdn.my-library.info/books/56839/56839.jpg)


