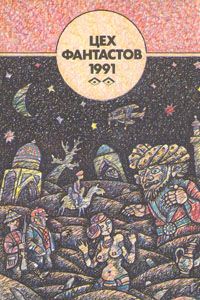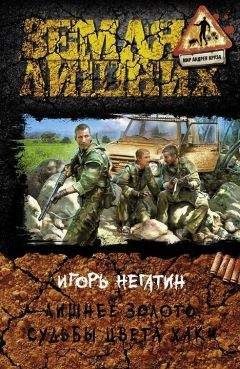Пока что он сумел как бы отключить пораженный участок. Бабушка спала и, по утверждению француза, не чувствовала во сне боли.
Какая такая давняя травма? Бабушка прожила суровую жизнь. В тридцать восьмом была взята как германская шпионка. После заключения с Гитлером пакта о ненападении получила замену лагеря на ссылку там же, в Карелии. С началом финской войны местом жительства ей был определен Красноярский край, а потом Магаданская область. В Москве, точнее, под Москвой, в Хлебникове, бабушка оказалась в пятьдесят седьмом. Таким образом, возможностей за эти годы получить черепно-мозговую травму у нее было более чем достаточно.
Француз сказал, что необходимо установить время и характер травмы. Это позволит подобрать наиболее эффективные препараты в предоперационный период. Еще сказал, что у него операция в Аргентине. Он вернется через две недели, и у него будут два свободных дня. К этому времени следует окончательно решить. Так что сразу после эксперимента Мите предстояло лететь в Москву, испрашивать у бабушки согласие на операцию.
Как только Митя задумывался о семейных делах, сразу словно оказывался в темном лесу. Он проблуждал в нем все детство и совершенно не имел охоты блуждать сейчас. Ему хотелось и одновременно не хотелось разобраться. Словно кто-то дикий, безграмотный изуродовал, обессмыслил семейное уравнение, внес в него чуждые — из других разделов — элементы. Мать и бабушка не ладили. Бабушка родила мать в ссылке. От кого — неизвестно.
Помнится, у него был на эту тему разговор с Фоминым. «Я знаю, что ваша бабушка была необоснованно репрессирована, — сказал Фомин, — и, поверьте, искренне об этом сожалею». Установить подробности, по словам Фомина, не представлялось возможным. Вместе с лагерями уничтожались архивы. А какие не уничтожались, пришли от времени в негодность. Бумага была дрянь, да и чернил не хватало, разбавляли водой. «Хранить вечно» — это кто-то пошутил. Фомин сказал, что даже весьма высокопоставленные люди не могут ничего доподлинно узнать о судьбе репрессированных родственников. «У меня самого отец расстрелян, — вздохнул Фомин, — а я понятия не имею, где его могила».
Митя не дослушал, пошел к себе работать. Странное дело, математический мир был более познаваем. Единственно возможным в нем движением было движение внутри законов: от познанных к непознанным. Математический мир был тоже противоречив, но не трагедийно. Вопрос: быть или не быть законам, правде — в нем не стоял. Стоило забыть, утратить, сознательно пренебречь единственной формулой, все обращалось в абсурд, бессмысленную кабалистику. Человеческий мир как бы цинично игнорировал эту очевидность. Со времени Сократа и Платона мир мучился вопросом: быть или не быть правде, справедливости на земле? И каждый раз как-то так оказывалось, что не быть. Это «не быть» изувечило жизнь бабушки, двадцать лет за воду и баланду валившую лес, добывавшую уголь в Сибири. Матери — сознательно выбравшей путь безмыслия, растительно-бытового существования. Его самого — охраняемого, засекреченного, летающего на персональном — со всеми удобствами — иностранном самолете, в то время как подавляющее большинство сограждан стояло в суточных очередях за авиабилетами, коротало ночи на застеленных газетами полах аэровокзалов. «Не быть» признавало единственный путь: от трагедии через фарс снова к трагедии. Это вело к тому, что чистый математический Закон, материализуясь, ускользал из его рук, превращался в тяжелый груз для все тех же вечных весов — быть или не быть правде на земле. И вовсе не Мите, оказывается, решать, на какую чашу класть.
Было время, он ненавидел действительность за ее тупое противостояние правде. Человек, поднявшийся до правды, был обречен. Что оставалось не желающему погибать человеку? Ему оставалось искать крупицы правды в обыденном, то есть в понятном, привычном большинству. А что более всего понятно, привычно большинству? А то, что есть, ну разве с исправлением совсем уж вопиющего зла. Таким образом, приверженцу правды, не желающему погибать, оставался единственный путь: не соглашаясь в мелочах, в целом принимать и даже защищать то, что есть. Довольствуясь тем, что есть, опасаться, как бы не стало хуже. Скучный, а главное, старый как мир, путь. Так живут миллионы.
Странный этот расклад открылся Мите в юности. Тогда ему было четырнадцать. Он был первым учеником по математике и физике. То вдруг увлекался теорией пределов, штудировал труд Валлиса, пугал учительницу невероятными мыслями, то напрочь забывал про математику, играл днями напролет в футбол, лепил ошибки в элементарных задачках. Но и когда штудировал Валлиса и когда играл в футбол — в комсомол ему не хотелось.
Всю жизнь единственным его другом была бабушка. С матерью серьезно говорить о чем-то было невозможно. Она или действительно ничего не понимала, или делала вид. Наверное, поначалу делала вид, потом и в самом деле перестала понимать. Отец считался историком, специализировался по новейшей истории Вьетнама. К юбилейным датам в газетах появлялись его статьи о Хо Ши Мине, о крепнущем вьетнамском социализме. Во время заседаний Общества советско-вьетнамской дружбы отец, случалось, сиживал в президиуме. «Видите? Вон я — слева от трибуны! — кричал, если сборище мимолетно показывали в конце программы «Время». — На мне дольше всех держали камеру!» Отец был воинственно чужд Митиным представлениям. Глубокомысленно вчитывался в информационные бюллетени «Для служебного пользования». Делал вид, что причастен. Когда объявили о вводе войск в Афганистан, он раз десять повторил за завтраком: «Гениальное решение!» По молодости лет Митя задирался с отцом. Тот не принимал его всерьез, снисходительно ухмылялся: «Хорошо бы тебе, дружок, в армию, там бы вправили мозги! Да боюсь, объедешь службу с этой своей математикой…»
Все свободное время Митя проводил в Хлебникове. Водохранилище, небольшие домики, сады, палисадники, узкие улицы, заборы стали милее каменной Москвы. Митя переехал бы жить к бабушке, если бы не школа. Иногда бабушка приезжала в Москву. Домой к ним не заходила. Они встречались возле церкви на набережной Яузы. Митя стоял в церкви в сторонке, пока шла служба. Потом провожал бабушку до метро или автобуса.
Бабушка была немногословна. Митя ценил ее немногословие. Мать топила в словах смысл. Отец говорил о вещах, не существующих в действительности, слова его как бы умножались на ноль и, следовательно, цены не имели. Бабушка молчала.
Митя извелся с этим комсомолом. Вступать не хотелось, но и отказаться было страшновато. Он носил в портфеле чистую анкету. Она уже истрепалась, а Митя не решался ни заполнить ее, ни выбросить.