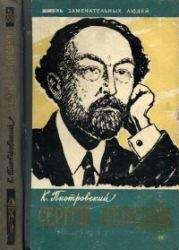Герда вынырнула из зарослей, волоча за собой на белом пояске некрупного упирающегося единорога.
— Одного одра заарканила-таки, — констатировала она и без того очевидный факт. — Больше нет, кругом одни жабы. И все чешутся о деревья, как шелудивые. К чему бы это?
— К дождю, — отозвался Генрих.
Вероятно, он сказал это просто так, занятый собственными мыслями, но тем не менее это было похоже на истину. Дней десять назад, перед первым и единственным пока дождем, на местную фауну напала повальная почесуха: и единороги, и гуселапы, и бодули всех мастей, и кенгурафы оставляли клочья своей шерсти на прибрежных камнях, стволах исполинского черничника и даже на углах их коттеджа. Жабы, кстати, страдали меньше остальных. То, что они начали сходиться к озеру, несомненно предвещало дождь, и не просто дождь, а тропический ливень, который, еще не достигнув земли, будет скручиваться в тугие водяные жгуты, способные сбить с ног средней величины мастодонта; через десять минут после начала по размытым звериным тропам уже помчатся ревущие потоки, и полиловевшие от холода жабы будут прыгать с нижних ветвей в эту мутную стремительную воду, которая понесет их прямо в озеро…
— Сходи за хлебцем, Эри, — попросила Герда, — а то эта скотина и минуты спокойно не простоит.
Эри проворно сбегал на кухню, выгреб из духовки еще теплые хлебцы, но обратно на лужайку предусмотрительно не пошел, а высунулся из кухонного окна, подманивая единорога только что отломленной дымящейся горбушкой.
— Не давай скотине горячего, — велела Герда.
— Ты что думаешь, тут трава на солнцепеке холоднее? — Он все-таки подул на хлеб, потом обмакнул его в солонку. — Ну, иди сюда, бяша!
Единорог дрогнул ноздрями и затрусил за подачкой, проворно перебирая мягкими львиными лапами. Герда догнала его и, когда он тянулся за горбушкой, ловко подсунула под него ведерко. Зверь жевал, блаженно щурясь, и в ведерко начали капать первые редкие капли; Герда, придерживая ведерко ногой, принялась чесать пятнистый бок — единорог фыркнул, присел, и в ведро ударили две тяжелые белоснежные струи. Это животное не нужно было даже доить — оно отдавало избыток молока абсолютно добровольно, и люди вряд ли догадались бы о том, как легко получить этот бесплатный дар местной фауны, если бы в зарослях то тут, то там не попадались белые, быстро створаживающиеся лужи.
Герда выдернула ведерко, прежде чем животное переступило с ноги на ногу, как правило, такая манипуляция кончалась гибелью всего удоя. Она нацедила молоко в кружки, положила в маленькие плетеные корзиночки по хлебцу. Когда обносила мужчин, почувствовала влажную теплоту в туфле — опять эта скотина напустила ей туда молока. Каждый раз одно и то же. Она бегом пересекла затененную лужайку, скинула туфли и выставила их на солнцепек. Потом вернулась в свою качалку и забралась туда с ногами.
— А ты что постишься? — спросил Генрих.
— Как-то приелось. Да и жарко.
Она не очень-то дружелюбно следила за тем, как мужчины завтракают. Когда кружки опустели, она подождала еще немного и спросила:
— Ну и как сегодня — вкусно?
— Как всегда, — отозвался Эри. — Бесподобно.
Генрих благодарно кивнул, стряхивая крошки с бороды.
— Тогда будь добр, Эри, — попросила Герда особенно кротким тоном, — достань мне из холодильника одну сосиску. Там на нижней полке открытая жестянка.
Эри, расположившийся было на кухонном подоконнике рисовать все еще пасшегося внизу единорога, кивнул и исчез в голубоватой прохладе холодильной камеры. Было слышно, как он там перебирает жестянки. Наконец он появился снова в проеме окна, шуганул единорога и протянул Герде вилку с нанизанной на нее четырехгранной сосиской.
— Благодарю, — сказала Герда с видом великомученицы. Все последние дни она демонстративно питалась ледяными сосисками, причем накал этой демонстративности от раза к разу все возрастал. Во всяком случае, мужчины старались на нее в такие минуты не глядеть.
— Между прочим, забыла спросить, — продолжала она, и вид у нее был такой, словно она собиралась переходить в нападение. — Вчера вечером молочко от нашей коровки было не хуже, чем обычно?
Мужчины недоуменно переглянулись — вроде бы нет, не хуже.
— А это было жабье молоко, — сообщила она, помахивая вилкой. И, удовлетворись произведенным эффектом, объяснила:
— Это вам за то, что вы кормите меня всякой консервированной пакостью.
По лицу Эри было видно, что он просто онемел. Дело было не только в том, что она сказала, — главное, что она так говорила со своим мужем. До сих пор он был для нее господином и повелителем, и это никого не удивляло — еще бы, сам Кальварский, гений сейсмоархитектуры, величайший интуитивист обжитой Галактики, без которого не возводился ни один город в любой сейсмозоне! И миленькая длинноногая дикторша периферийной телекомпании «Австралаф», обслуживающей акваторию Индийского океана. Шесть лет незамутненных патриархальных отношений, и вдруг…
— Ты просто устала от безлюдья, детка, — сказал тогда Генрих. — Давай-ка собираться на Большую Землю.
— И не подумаю, — возразила детка, — я еще не взяла от Поллиолы все, что она может дать. Я еще не собрала свою каплю меда…
Если бы он тогда мог угадать, что ее капля меда окажется красного цвета!
Тогда он пил бы и сейчас свою кружку молока — от жабы ли, от единорога, не все ли равно — вкус одинаковый, а не сидел бы в этом огуречном лиловом дерьме, тупо глядя слипающимися от бессонницы глазами на только сейчас появившегося из-за деревьев нелепо ковыляющего панголина. Явился-таки, искомый гад. На этот раз придется пропустить тебя вперед. Валяй. Догонишь бодулю — не может же она удирать без остановки, — тогда можно будет выстрелить поверх тебя. Не бойся, десинтор не разрывного действия, без обеда ты не останешься. Просто надо будет опередить тебя из гуманных соображений.
Генрих отступил за огуречный ствол и подождал, пока ящер, по-прежнему двигаясь судорожными толчками, прополз мимо. Выйдя из-за ствола, Генрих с удовлетворением отметил, что панголин проделал в россыпях огурцов заметную борозду — не надо разгребать шершавые плоды, чтобы найти след с четырехпалой лапой и регулярными розоватыми пятнами справа.
Преследование ящера в этой огуречной роще отличалось такой монотонностью, что Генрих окончательно перестал следить за временем и пройденным расстоянием. Сколько он шел, осторожно ставя ногу прямо на след ящера, полчаса или полдня? Убийственное однообразие колоннады растительных монстров могло усыпить на ходу. И усыпляло.
Из этого полудремотного состояния Генриха вывело падение. Под ногой злорадно хлюпнул раздавленный огурец, смачные лиловые плевки усеяли штанину, и он почувствовал, что уже лежит на боку и в левой кисти нарастает боль, нарастает жутко, по экспоненте. Ящер обернулся, удовлетворенно прошипел что-то на прощанье и исчез как-то особенно неторопливо. "Погоди, гад ползучий, невольно пронеслось в голове, — я ж тебя догоню… Вывихнуть руку — это тебе не десинтором по боку. Я ж тебя доконаю…" Он спохватился на том, что сейчас, выходило, он гнался уже не за бодулей, а вот за этим зеленым выползком, и то суммарное чувство досады, нетерпения, собачьей тяги вперед, по следу, и есть, вероятно, атавистический охотничий инстинкт, в существование которого он до сих пор не верил.