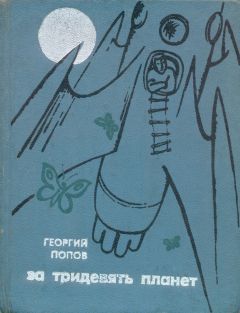Единогласно и безоговорочно. И именно в этот момент Сашку как бы осенило. Он сказал, что внушение, животный магнетизм, радиоволны, как и сверхъестественная сила, — чепуха, выдумка, не стоящая внимания, и что все объясняется взрывом сознательности, подготовленным всем ходом воспитания.
Не берусь судить, какая из этих версий ближе к истине. Да для меня в данном случае важна не версия, а результат, так сказать, конечный итог. А результат заключается в том, что наступило славное житье-бытье.
Надо — бери, не надо — так и брать нечего. Значит, и всяким махинациям конец, всяким взяткам, спекуляциям, кражам. А это ведет за собой новые важные последствия: милицию можно сократить вдвое, а суды и втрое. И суды и тюрьмы. Зачем суды и тюрьмы, когда высшим и самым тяжким наказанием считается отстранение от работы.
III IV
И так, все сели, а я стал ходить из угла в угол, разглядывая скромную, почти спартанскую обитель здешнего председателя. Ни ковров, ни хрустальных сервизов, ни каких-либо других дорогостоящих предметов я не обнаружил. Две-три картины, написанные масляными красками, — вот и все.
Одну стену целиком занимала книжная полка, забитая до отказа, из чего я заключил, что здешний Иван Павлыч, не в пример нашему, земному, большой любитель печатного слова. Я пробежал взглядом по корешкам книг. Рядом с классиками стояли современные писатели, русские и иностранные, и всякие пособия по технике руководства. Одна книга так и называлась — «Техника индивидуальной работы с массами», — она была изрядно потрепана.
Ну и телевизор во весь простенок, как и в доме тетки Сони. Никакого телевизора, разумеется, не было видно. Он угадывался по кнопкам чуть ниже подоконника да по более бледной, по сравнению со стеной, окраске самого экрана. И только. Меня так и подмывало протянуть руку и включить. Интересно было узнать, какие здесь в это время бывают передачи. Но, вспомнив, что я не дома, а в гостях, я воздержался от этого шага. И напрасно, как вскоре выяснилось. Именно в этот момент передавали сообщение, потрясшее все здешнее человечество.
Разговор как-то не клеился.
— Ну, что на юге? — спросил батя, ворочаясь в кресле.
— А что? Ничего.
— Когда-то цивилизация двигалась с юга на север. Сейчас наоборот, вставил Андрей Фридрихович, покачав головой.
Иван Павлыч и батя тоже стали качать головами, думая о чем-то важном и значительном. Может быть, о той же цивилизации. На какое-то время они отвлеклись от меня, то есть забыли о моем присутствии, и я не преминул воспользоваться этим. Сел в кресло и закинул ногу на ногу.
Должен заметить, что стоячее положение имеет свои плюсы и минусы. Приятно, когда ты смотришь на все сверху вниз. Высота — это все-таки высота. Недаром все стремятся вверх, вверх и вверх. С другой стороны, снизу виднее. В самом деле, сверху что увидишь?
Тупые или, наоборот, острые затылки, толстые или тощие шеи, согбенные или широко расправленные плечи. А снизу — снизу видны лица с приливами и отли183 вами, со всем тем, чего не в состоянии передать самые острые затылки.
Казалось бы, чего проще — губы. А посмотрите, стоит чуть-чуть опустить уголки — и вы законченный скептик. А приподнимите хоть слегка те же уголки ого! — вас и не узнать. Был скептиком, а стал этаким мужичком-бодрячком. А глаза… глаза способны сказать такое, чего никакими словами не скажешь. Однако тут бывают и осечки, своего рода недоразумения.
Глянешь иной раз в глаза, эге, думаешь… Ну, и понятное дело, вечерком летишь сломя голову, воображая себя Наполеоном и Талейраном одновременно, а постучишься в дверь — сразу от ворот поворот. «Погоди, погоди, ты же…» «А чего я? Ну, чего, чего?» Говорят, что-то похожее случилось и с Кузьмой Петровичем, когда он отважился на любовный подвиг.
И не только губы и глаза — даже неподвижный, как скала, нос, даже брови, словом, любая деталь, украшающая человеческую физиономию, способны выразить и чувство, и мысль. Тут все зависит от того, кому эти детали принадлежат. Если, допустим, пустому, никчемному товарищу, то и взятки гладки. О каких чувствах и мыслях может идти речь? А если у этого товарища за душой кое-что есть, пусть самая малость, тогда, согласитесь, совсем другой коленкор.
У моих собеседников за душой кое-что было, и их лица представляли интересный объект для наблюдения. Я старался не пропускать их взглядов, улыбок, сам отвечал соответствующими взглядами, улыбками, кивками, короче говоря, вел своего рода мимический разговор. Когда батя склонил голову в мою сторону и слегка растянул губы, я тоже склонил голову и растянул губы. А в ответ на ухмылку Андрея Фридриховича, вызванную, должно быть, воспоминаниями о далеком прошлом, так ухмыльнулся, что кресло подо мной не выдержало и заскрипело.
Лишь с Иваном Павлычем контакта не получалось.
Сидя поодаль от меня, у книжной полки, он все время сосредоточенно думал о чем-то. Его лицо, в общем не лишенное приятности, то заслонялось тучами, то озарялось светом нежданных мыслей, то вдруг принимало спокойно-блаженное выражение.
— Урожай как? Ничего? — вдруг спросил Иван Павлыч.
— На юге? Ничего. Как всегда центнеров по сорок с гектара возьмут. Пшеницы, разумеется.
Все трое посмотрели на меня несколько удивленно.
— Ну, не всюду, а на отдельных площадях, — стал изворачиваться я, но… лучше бы я этого не делал.
Все трое переглянулись и поджали губы. Я подумал, что дал маху. Да так оно и было на самом деле.
Оказалось, минимальные урожаи здесь семьдесят-восемьдесят центнеров с гектара. В некоторых местах (и, в частности, на Кубани) они доходят до ста и даже до ста двадцати центнеров с гектара.
А сорок центнеров — и говорить смешно. Случись такой урожай, люди начинают бить тревогу. Председателя, как нерадивого хозяина, отстраняют от должности и показывают по телевизору: вот, мол, смотрите, какой фрукт!..
Когда я понял, что дал маху, мне стало неловко за себя. Чтобы как-то разрядить обстановку, я решил сделать ход конем и разузнать кое-что такое, что, на мой взгляд, представляет интерес для нашей, земной науки.
«Эдя, лови момент», — подумал я, лихорадочно соображая, как лучше подступиться к Петру Свистуну.
— А как у вас? — сказал я, полагая, что этого достаточно для начала.
— А что у нас? — переспросил Иван Павлыч.
Я подумал, что он сейчас заведет речь об урожаях, начнет хвалиться, как это делают все председатели, и прервал его, можно сказать, на полуслове.
— Как там Катя? Что о ней слышно?
— Какая Катя? — завозился в кресле Петр Свистун.
— Да дочка Николая Николаевича, твоего друга…
— А-а, не знаю… Давненько ничего не получал от них. Никакой весточки.