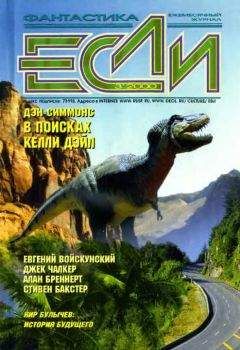— Потому что ты наблюдатель, — пояснила она. — А они воплощают в себе всего лишь другие твои траектории. У вас общая амплитуда вероятности — ты реальна и они реальны. Но они реальны лишь в потенциале. — Задумавшись на миг, она добавила: — Вообще-то некоторые из них способны видеть друг друга — к примеру, те, кто был в твоей палате в больнице, кто «откололся» от тебя совсем недавно.
— Для ненастоящего мальчика Роберт кажется ужас каким реальным.
Доктор Кэррол встала. Налила себе кофе.
— Дело в том, что некоторые отголоски потенциально более реальны, чем другие. Очевидно, был момент, когда твои родители всерьез подумывали о сыне с художественными способностями. Чем выше была вероятность рождения данного конкретного отголоска, тем более реальным он тебе теперь кажется.
Я тряхнула головой:
— Когда я все это прочла, мне показалось, что отголоски должны быть у всех на свете.
— Видимо, так оно и есть, — согласилась она. — Как знать, возможно, каждый человек на Земле представляет собой узел бесконечного числа вероятностей, и самые возможные из этих линий порождают феномен отголосков. Особенно в наше время — за счет успехов генной инженерии. Тридцать лет назад при зачатии возникало лишь ограниченное количество генетических комбинаций; теперь их миллиарды.
— Но почему же я свои отголоски вижу, а вы свои — нет?
Доктор Кэррол со вздохом вернулась за свой стол.
— Иногда, — проговорила она с усмешкой, — мне кажется, что гипотез и теорий у нас больше, чем у тебя отголосков. Келер проводит любопытное сравнение. Зиготы растут путем клеточной пролиферации: из одной клетки получаются две, из двух — четыре, а также дифференцировки, то есть одни клетки образуют нервную ткань, другие развиваются как мышечные, и так далее… Как предполагают теоретики, амплитуда вероятности эволюционирует сходным образом — одна волна расщепляется надвое, другая дифференцируется от первой на квантовом уровне, порождая ряд квантовых «призраков». Возможно, ты помнишь, что принцип разветвления квантов сходен с механизмом «памяти тела», который проявляется на клеточном уровне. Возможно, процесс геноусовершенствования вызывает в мозгу структурные изменения, они-то и позволяют тебе видеть отголоски.
— Другими словами, — парировала я, — вы не знаете.
Она пожала плечами:
— Сейчас мы знаем больше, чем в тот день, когда ты впервые пришла к нам. Но прошло всего лишь несколько лет. Вполне возможно, что проблема будет решена следующим поколением ученых, после того, как будет накоплено достаточное количество материала путем — я прошу прощения — патологоанатомических исследований.
Я вообразила свое тело лежащим на лабораторном столе с расколотым, как кокосовый орех, черепом, увидела ученых, изучающих мои извилины, точно гадалка чашку с кофейной гущей. Эта картина преследовала меня несколько дней. Худшей чертой моих способностей было то обстоятельство, что они постоянно и отчетливо напоминали о моем противоестественном происхождении. Кроме музыкального таланта, у меня ничего на свете не было, и я держалась за свой дар, как за спасательный круг, но порой задумывалась, можно ли считать этот тщательно спланированный и сконструированный талант подлинным. Я пыталась не зацикливаться на подобных мыслях, но не всегда это удавалось. Периодически я впадала в депрессию — всякий раз в самый неудачный момент.
Я перешла в выпускной класс. Пора было задумываться о дальнейшей жизни, и я решила поступать в Джиллиард-скул. В марте родители, я и профессор Лейэнгэн отправились в Нью-Йорк. Для экзамена я выбрала «Этюд ми-мажор» Шопена, прелюдию и фугу из «Хорошо темперированного клавира» Баха, «Фортепианную сонату» Эллиота Картера и любимый с детских лет «Концерт ре-минор» Марчелло. Последнее произведение, написанное автором для гобоя с оркестром, я исполняла в переложении для фортепиано, но все равно требовалось, чтобы кто-то сыграл за оркестр (в Джиллиард-скул лишь недавно разрешили исполнять на экзаменах концерты, но компьютерный аккомпанемент по-прежнему оставался под запретом), и профессор Лэйэнгэн любезно согласился сделать это на втором рояле. Пока поезд мчался к Нью-Йорку я испытывала волнение, радостное предвкушение, страх. Но войдя в аудиторию и оказавшись перед жюри, я вдруг разуверилась в себе. Мне чудилось, будто все они смотрят на меня многозначительно, словно все обо мне знают, словно на лбу у меня четкое клеймо «Мошенница» или «Трансгенный мутант» — хотя я и убеждала себя, что в Джиллиард-скул наверняка предостаточно мне подобных. У рояля я долго ерзала на табурете, пытаясь побороть смущение и страх, боясь встретиться взглядом с экзаменаторами… пока профессор Лэйэнгэн не поторопил меня, громко откашлявшись. Оттягивать казнь было бы еще ужаснее, и, закусив губу, я начала «Этюд». Как только мои руки коснулись клавиш, все опасения, слава Богу, испарились. Я перестала чувствовать себя мошенницей с подправленными генами. Более того, я вообще перестала быть Кэти Брэннон: я превратилась в инструмент, которым распоряжалась музыка, в орудие, позволяющее вновь зазвучать мелодии, написанной два столетия назад.
После Шопена я исполнила Баха, а затем «Сонату» Картера с ее сложнейшим контрапунктом; наконец, профессор Лэйэнгэн сел за второй рояль, и вместе мы начали играть концерт. Все предыдущие пьесы я исполнила, как сама чувствовала, вполне сносно, но к сочинению Марчелло у меня было особое отношение. Лишь в тот день, на экзамене, я впервые начала постигать, чем именно оно меня пленило. Играя первую часть — увлекательное, красноречивое, летящее напропалую анданте, — я услышала в ней щедрые обещания и нетерпеливость юности: свои надежды, возложенные на меня ожидания родителей… Я перешла ко второй части, и атмосфера отптимистичного ожидания сменилась медленными, повисающими в воздухе звуками адажио, одновременно лиричными и печальными — совсем как неожиданные повороты моей судьбы, и в хроматических аккордах мне чудились громкие крики призраков, «отголосков». Но вот и третья часть — престо: возврат к стремительному темпу начала, и точно груз падает с души, и сама мелодика обещает спокойное, упорядоченное существование. Неудивительно, что я обожала этот концерт — ведь я по нему жила.
Когда я закончила, экзаменаторы с непроницаемыми лицами учтиво улыбнулись и произнесли: «Спасибо». Мне было уже все равно — я знала, что сыграла хорошо, с чувством, без технических огрехов, а главное, выложилась до конца. Родители, профессор и я отпраздновали успех в ресторане и вернулись домой семичасовым вашингтонским. Сидя в купе поезда, рассекающего тьму, я чувствовала себя необыкновенно счастливой и непобедимой.