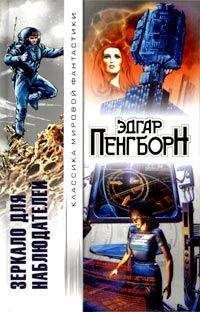Меня впустил сам Келлер, рассеянный, дружелюбный, усталый, но не ставший менее строгим. Под дверным замком я обнаружил еще два имени — Карл Николас и Абрахам Браун.
Едва оказавшись в искусно отделанном холле, я тут же услышал приглушенные закрытыми дверями звуки фортепиано. Смысл восьмой инвенции Баха пытался постичь некто, чьи пальцы и ум были далеко не готовы к подобному постижению. Пока Келлер, приняв пальто, вел меня в пышную жилую комнату, левая рука музыканта дважды совершила одну и туже грубую ошибку. Исполнитель заметил ее, но еще не понял, что такие ошибки можно исправить только с помощью скучных долгих упражнений. И хотя звуки были приглушенными, создавался раздражающий фон крушения надежд.
— Скотч? — сказал Келлер.— Туда еще рановато подниматься.
— Спасибо.
Он принялся колдовать у фантастически маленького бара. Что-то раздражало меня и помимо спотыкающейся музыки. Это не была очевидная роскошь — я и так знал, что метод мессианской предприимчивости, присущей Максу, всегда представлял собой золотое дно. Легионы одиноких, изголодавшихся по мыслям и эмоциям, сбитых с толку и обиженных, злых мечтателей наконец — кто из них не отстегнул бы пять-десять долларов, в надежде купить себе замену Богу, или Деве Марии, или Старшему Брату, или Новому Иерусалиму?.. Нет, дело было в другом: едва оказавшись в комнате, я заметил краем глаза какую-то странность, а потом отвлекся. И пока Келлер возился с выпивкой, я снова обнаружил эту странность — возле арки выхода в холл висел рисунок. Я продрейфовал к нему и остолбенел.
На фоне унылой угольно-черной темноты — зеркало. Откуда-то падает странный свет, возможно, льется из самого зеркала. В зеркало смотрит молодой человек. Видны, правда, только обнаженная рука и плечо, до часть щеки, но этих деталей вполне достаточно, чтобы сказать — и с абсолютной уверенностью! — о его чрезвычайной молодости. В зеркале же на зрителя смотрит Зрелость. И тут нет ни гротеска, ни преувеличения возраста. Взятое отдельно, это скорбное лицо с пристальными глазами должно принадлежать человеку, у которого за спиной по меньшей мере тридцать-сорок сложных и печальных лет... Да, конечно, воображение любого художника могло бы натолкнуться на такую концепцию, да, уровень технического исполнения был присущ тысячам профессиональных художников. Но...
— Нравиться? — лениво спросил Келлер, протягивая мне выпивку.— К Эйбу иногда приходят чертовские идеи. Не всякого заинтересует такое.
Я привел в порядок свое лицо:
— Да, потрясающая работа.
— И я так думаю. На самом деле он не работает над ними, он делает их наспех.
— Эйб?.. О, это Абрахам Браун. Я видел его имя на вашей двери.
— Угу.— У него не возникло подозрений: просто Уилл Майсел оказался наблюдательным человеком.— Эйб мой друг. Делит эту квартиру со мной и с моим дядей. Это Эйб музицирует. Не люблю его прерывать, иначе бы представил вас.
"Твой дядя?" — подумал я. И сказал:
— Как-нибудь в другой раз... Он... э-э... тоже интересуется делами партии?
— Более или менее.— Келлер сел, глядя в свою выпивку, вздохнул, человеческим жестом отогнал от лица дым.— Не совсем политически зрелый. Совсем ребенок, мистер Майсел. Еще не нашел себя. Ему только двадцать один год.
Я должен был либо сменить тему, либо выдать сея.
— Макс живет рядом?
Келлер снисходительно улыбнулся. Глаза его говорили, что я слегка замешкался со своей выпивкой.
— Наверху. В пентхаусе[43].
Анжело жив. Я разобрался с выпивкой без излишней торопливости, но быстро.
Горилла[44] вежливо обыскал меня в холле пентхауса, а Келлер тут же извинился за то, что не предупредил меня об этом. Хорошо, что гранаты имеют достаточно плоскую форму и хорошо прикрепляются к коже. Джозеф был уже среди щебечущих людей. Келлер, ведя меня за собой, продираясь через лес из рук, грудей и коктейльных стаканов. Мои мысли все еще пребывали внизу, рядом с "Абрахамом Брауном". Я надеялся, что мою рассеянность примут за косноязычное благоговение, которое мне полагалось ощущать в присутствии Великого Человека.
При близком рассмотрении сходство с Калхоуном закончилось челюстью. Оставшаяся часть крупного желтоватого лица замазана и зашпаклевана. Седая грива волос. Гипертиреодные, как у Уолкера, глаза и такой же нерешительный, почти слепой взгляд. Вероятно, из тщеславия избегает носить очки, но, конечно, далеко не слеп: первая же улыбка преподнесла ему Уилла Майсела взвешенным, перевязанными ленточкой и занесенным в картотеку. В нем есть, Дрозма, что-то от параноидальной силы Гитлера, немного от сварливой интеллектуальной ярости Ленина и его густых бородатых школьников. В нем есть избыток неприкрытой жажды власти, но очень мало истинной суровости, которую мы ассоциируем со Сталиным, Аттилой. Макс следует традициям тиранов, но суть его слаба. Первое же его крупное поражение может оказаться последним — он застрелится или уйдет в религию. Вот только партия, которую он создал, совсем не обязательно должна разделить его судьбу.
— Мистер Майсел! Мистер Келлер сегодня говорил о вас. Рад встречи с вами, сэр! Надеюсь, вы пожелаете работать вместе с нами.
У него есть шарм.
Я сказал:
— Для Америки нынешний год станет великим.
Эту фразу я придумал сам. Большие глаза тут же поблагодарили меня. Я смотрел, как он примеривает мои слова к знамени компании. Меня одарила улыбкой платиновая блондинка. Дружно поднялись стаканы. Подчиняясь взгляду Макса, Платинка тут же приклеилась ко мне, принялась проявлять заботу о моей выпивке. Мириам Дэйн, раскаленные под пеплом уголечки...
Пылкая, самоуверенная самочка. Когда она забывает улыбаться, ее рот становиться печальным и не терпеливым. Кажется постоянно прислушивающейся к кому-то, кто в любой момент может позвать ее. Профессионально разыгрывала благоговение маленькой девочки перед всем, что слетало с моих губ. Я догадался, что я уже в партии, Дрозма, раз приходится играть в подобные игры. Но теперь, когда я узнал, что Анжело жив, все ставки снимаются. У меня не было никакого плана дальнейших действий, но одно я знал наверняка: завтра, когда Келлер отправится в свой офис, я снова приду в его квартиру.
Мириам поискала кого-то глазами и спросила:
— А Эйб Браун не поднялся вместе с вами и Биллом?
Ее рука коснулась крупного брильянта, украшавшего палец другой руки.
— Нет, он музицировал. Я никогда с ним не встречался... Голубушка, я страшно наблюдательный старик.— Я бросил на ее бриллиант лучезарный взгляд, свойственный Санта Клаусу.— Эйб Браун?
И тут с разыгрываемой ею милой досадой что-то произошло. Получилась как бы актерская игра с двумя планами. Подразумевалось, что под милой досадой скрывается удовольствие, но на самом деле удовольствием там и не пахло. На самом деле под милой досадой я обнаружил некое малопонятное замешательство.