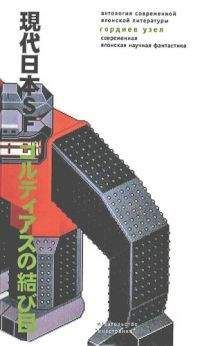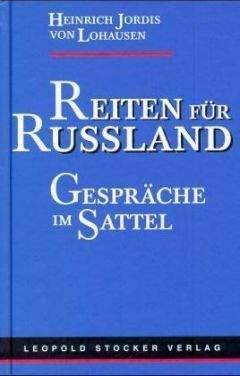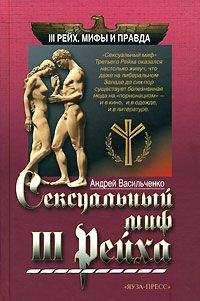Не сдержавшись, я тоже разрыдалась. Мама с сестрой в изумлении смотрели на меня, так как я никогда раньше не плакала на людях.
— Ну, перестань, нечего слезы лить, — утешала меня мама. Но я уже не могла остановиться. Я рыдала горько и беззвучно, причем совсем не по-детски. В сущности, в тот момент я уже не была ребенком. Я готовилась встретить свой смертный час.
С того дня жизнь моя резко переменилась. Нужно было хорошенько обдумать, что должен сделать человек, который обязательно умрет через шесть месяцев. Я постоянно была погружена в смутные печальные раздумья. При одной мысли, что смерть неминуемо приближается, меня прошибал холодный пот. А вдруг бешенство уже начало проявляться? Да. наверняка! Я просто места себе не находила и пыталась убедиться, что Тиро не мог заразить меня. Но как только перед глазами возникал пес, поедающий карри, во мне крепла уверенность, что болезни не избежать. Я вспоминала устремленные на меня горящие глаза Тиро и считала, что для меня все кончено.
— Мам! А что ты будешь делать, если я умру? — частенько спрашивала я, приводя маму в ужас.
— Даже не смей говорить такое! Ты что, не знаешь, что слова имеют силу? Никогда не задавай таких вопросов!
Я молча слушала, склонив голову набок. Ну что она понимает? — с жалостью думала я.
Тогда я пошла к сестрице.
— Послушай, сестричка! А если я возьму и умру?
— Тогда отдай мне тряпичного медвежонка, которого тебе папа подарил на прошлый день рождения!
Я молча опустила голову и, убежав в свою комнату, заплакала.
Позже я подошла к отцу.
— Папочка! А тебе будет грустно, если я умру?
Папа расхохотался.
— Ого! Так ты, оказывается, размышляешь а жизни и смерти? Умница, папина донка! В таком возрасте — уже философ. Превосходно, превосходно!
Какая тут философия! Я же на самом деле умру! Может, у меня уже наступает бешенство. Эта тревога перерастала в уверенность, что я действительно заболела. Через полгода я умру. Эта ужасная мысль гвоздем засела а моей голове.
Состояние постоянного уныния помогло мне острее прочувствовать смену времен года. С того момента, как я поняла, что смерть неминуема, все, прежде эфемерное и бессмысленное для меня, например время, как-то внезапно обрело совершенно четкие формы. Люди вокруг, особенно члены моей семьи, превратились как бы в самостоятельные кусочки мозаики, складывавшиеся в окружавшую меня картину чувств. Эти чувства соединялись друг с другом настолько крепко, что практически не оставляли просвета. Если я изымала из окружающего пространства любовь мамы, то освободившееся место мгновенно Заполнялось любовью отца и сестренки. У меня было чувство, что я буквально погребена под их любовью. Я впервые осознала, что в семейной любви не бывает вакуума. Все вокруг заполнено чувствами окружающих меня людей. Это густая, плотная, вязкая субстанция любви. По-настоящему счастливый человек живет, не замечая этого, и именно поэтому он счастлив, поняла я. И что может быть несчастнее ребенка, который вдруг стал замечать окружающую его любовь?! Я изо всех сил старалась не плакать. Ведь привлекая внимание к себе, я волей-неволей нарушу баланс чувств, который создан в семье. Мне же хотелось умереть так, чтобы никому не причинить горя Или печали, пусть все течет как течет, просто в один прекрасный день из этой счастливой семьи выпаду я — так тихо, что никто даже этого и не заметит. Вот о чем я мечтала. А пока надо всеми силами отдалять наступление безумия. Бога для меня не существовало. Погруженная в раздумья, как все лучше устроить, я брела по дороге в школу, окруженная надвигающейся осенью. Осень источала тонкий, едва ощутимый аромат. Я не только видела, но и обоняла се оранжевые лучи, настолько яркие, что их едва можно было терпеть. Я ступала по палой листве и говорила осени: «Ты все понимаешь, а потому ты рядом со мной!» Я обращалась к ней, словно к упрямому, не желающему принять реальность возлюбленному, и раскрывала ей свои объятия. В ту пору до меня даже не доходил смысл слов «любить мужчину», но именно так я объяснялась с осенью. Я любила ее, как мужчину.
В классе я приобрела репутацию немного эксцентричной, но развитой не по годам «дерзкой девочки».
Это меня вполне устраивало. Во всяком случае, я могла открыто говорить все, что мне заблагорассудится, не заботясь о мнении окружающих, как все остальные.
Наверное, я излишне злоупотребляла своим влиянием, Если мне кто-то не нравился, я без стеснения заявляла об этом. В результате одноклассники без всякой причины тоже начинали ненавидеть того, кто не нравился мне. Тем не менее я не чувствовала за собой никакой вины. Я же лично ничего такого не совершила — не мучила, не издевалась, так что ручки у меня всегда были чистенькие.
Дело кончилось тем, что несколько человек в классе превратились буквально в изгоев. И вот теперь, на закате жизни, меня стала мучить совесть. Я осознала жестокость своего поведения и просто места себе не находила. Я вдруг поняла, что настраивала ребят против некоторых учеников, вероятно, из чувства страха. Ведь все дети, на которых я навесила ярлыки «противных и неприятных», в каком-то смысле были похожи на меня. При достаточно остром уме и смекалке каждый мог занять мое особое положение в классе. Только они этого не делали, так как знали, что это нехорошо, некрасиво, что это попытка возвыситься над остальными.
Отныне я жила в совершенно новом, неведомом мне прежде мире — мире, где объясняются в любви осеннему свету, жалеют невинно обиженных товарищей, в мире раскаяния и стыда, страха смерти и безумия, непривычной любви к семье — во всем этом я безуспешно пыталась разобраться.
Но у меня для этого не хватало душевных сил, временами я просто переставала соображать, что к чему, и после уроков бессмысленно бродила по классу. Возможно, таким образом я старалась успокоить свои нервы. В библиотеке я клала книги в Портфель, не заполняя формуляра, то есть попросту крала их. В комнате для музыкальных занятий я без спросу открывала крышку рояля и раскрашивала красками белые клавиши. Иными словами, хулиганила как могла. Прокравшись в мужскую уборную, я пыталась писать новым способом, по-мальчишечьи — стоя. Это был своего рода вызов. В результате, конечно, ничего из этого не получилось, только грязь развезла. Я бесконечно придумывала для себя все новые и новые испытания, пробуя сделать то, чего прежде никогда не делала. Правда, все эти выходки продолжались недолго. Однажды на утренней линейке встал вопрос о совершенно необъяснимых происшествиях. Разумеется, в душе я раскаивалась. Но что я могла поделать? Я ведь доживала последние месяцы, а потому общепринятые нормы поведения меня не касались. И вот наконец как-то вечером я тихонько пробралась в кабинет естествознания. Там на полках и в ящиках лежали минералы, которые мы изучали на уроках: известняк, туф, слюда, кварц… От восторга у меня болезненно сжалась грудь. Мне показалось, что сердце у меня оборвалось. Стоя среди камней, я смирилась со всем. Известняк… В глубокой древности это были живые организмы, которые, умирая, наслаивались друг на друга, и вот теперь, спустя тысячелетия, лежали у меня на ладони как память далеких времен. Слюда ослепительно блистала в лучах вечернего солнца. Я осторожно отделила от нее тонюсенькую чешуйку. Но даже и в ней виднелись напластования, тончайшие, как крылья стрекоз. Я с силой стиснула этот крошечный камешек, несший в себе непомерный груз вечности. До чего же он был красив! Мне вдруг захотелось раскрыть объятия тому неведомому и смутному, что внезапно возникло у меня за спиной, и радостно впустить его сюда.