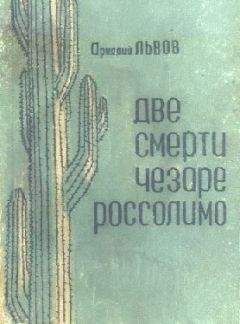Зрачки Мака, хотя освещение практически оставалось неизменным, то расширялись чуть не во всю радужку, и тогда в глазах его появлялась огромная, не знающая утоления печаль, то сокращались до размеров булавочной головки, и тогда глаза делались по-лесному внимательные, колючие, злые, вроде в просвет среди лиан они высматривали врага.
Внезапно, причем внезапность состояла не столько в мгновенности действия, сколько в его абсолютной бесшумности, стена, к которой Мак был обращен лицом, исчезла, и вдали открылась зеленая лужайка. На лужайке было много детей, они играли в салки, запускали змея, надували шары. Каждый хотел, чтобы никто не мог его догнать, чтобы змей его взлетел выше всех других, чтобы шар его был самый большой. Шары часто лопались, воспитательницы, не дожидаясь просьбы, сами подносили детям новые шары, и соревнование начиналось сызнова.
Самый большой шар надул рыженький мальчик, который чем-то напоминал Мака. Сходство было несомненное, но трудно поддавалось слову, как обычно, когда сравнивают детей и взрослых. Шар, надутый рыженьким мальчиком, был очень велик, и стоило ветру подуть чуть крепче, как мальчик, держась за свой шар, поднялся в воздух. Воспитательница едва успела схватить его за ноги, а он негодовал и доказывал, что это не ее ноги, и пусть лучше она отпустит его. Хорошо, быстро и спокойно согласилась воспитательница, но, только лишь она отпустила его и повернулась, шар лопнул. Со стороны могло показаться, будто, поворачиваясь, она коснулась шара булавкой, но уверенности в этом не было, тем более, что неудачу она очень искренне переживала вместе с мальчиком.
Мак следил за лужайкой не без интереса, однако настоящего отклика в его душе тамошние приключения не вызывали. Даже горькие слезы рыженького мальчика, оплакивавшего свой шар, видимо, не очень тронули его; во всяком случае, исчезновение шара скорее удивило его, нежели огорчило, так что, когда шара не стало, он вовсе потерял интерес к зеленой лужайке.
После лужайки в перспективе появился школьный двор. Только что закончился урок, ребята выскакивали в дверь стремительно, вроде выброшенные катапультой. Направления никто заранее не выбирал, но всегда получалось так, что скопление с наибольшей массой обладало и наибольшей притягательностью.
— Гоп-ля! — воскликнул мальчик, вторгшись с ходу в скопление.
Это был тот самый рыженький мальчик, который недавно играл на лужайке, но теперь его сходство с Маком определялось уже без труда, и не только по причине общего цвета и разреза глаз, очертаний носа, рта, овала лица, но в силу бесспорной поведенческой близости: быстрота физической реакции, точность движений, высота эмоционального накала.
Как ни странно, Мак нисколько не заинтересовался портретной и характеристической своей схожестью с рыжим мальчиком. Один лишь раз, когда мальчик затеял драку и в этой драке ему досталось, Мак чуть подался вперед, но и здесь скорее для того, чтобы получше рассмотреть подробности, нежели из сочувствия или даже простой симпатии к мальчику.
Школьный двор исчез, стена воротилась на свое место, и все это произошло с такой быстротой, что невозможно было даже мысленно отметить границу двух событий. Мак, впрочем, не был удивлен стремительной переменой, хотя с минуту продолжал еще следить за стеной. Убедясь, что с этой стороны ничего больше ждать не приходится, он на мгновение поднял голову кверху, где солнечный свет, преломляясь в хрустальных призмах, падал на потолок многоцветным спектром, и тут же опустил ее, тяжело, вроде сдавленный внезапной тоской.
Холмы покрылись снегом, над землей безостановочно кружили огромные, как ватные тампоны, хлопья снега — их было невероятно много, где-то за ними скрывалось небо, но оно, это синее небо, и ослепительное солнце представлялись сейчас воспоминанием из давнего, еще детских лет, сновидения, которое время от времени почему-то возвращается к человеку.
Стало холодно, неуютно, тоска перерождалась в тревогу, тревога — в страх, хотелось крикнуть, позвать на помощь, а звуки застревали в горле, горло разбухало, не хватало дыхания, в ушах звенели тысячи колокольцев, между тем, звон все нарастал, и не было от него укрытия. Мак хотел поддержать голову руками, но они набрякли, вроде налитые сваренным вкрутую клейстером.
— Добрый день, Мак! Добрый день, — повторил ласковый голос, и Мак, еще до того, как очкрыл глаза увидел молодую, лет, должно быть, двадцати восьми, женщину со спокойной, очень доброй улыбкой, которая бывает от глубокого понимания, но без всякого заметного упора на это понимание.
Когда Мак поднял голову, женщина немедля назвалась:
— Тета, научный сотрудник Органов Охраны Городского Порядка, докторант социологии, оргоп-психолог второго класса.
Представясь, она тотчас, не требуя подтверждения, сообщила Маку, что ощущение тяжести и затрудненного дыхания у него уже прошло и она была бы рада побеседовать с ним.
— Вы готовы? — спросила женщина все тем же ласковым голосом, Мак не ответил, и она сама сделала обычное в таких случаях заключение: молчание — знак согласия.
— Мак, — произнесла она очень спокойно, так что в словах ее не было ни скрытого осуждения, ни даже намека на него, — прежде всего, мне хотелось бы услышать, как вы сами объясняете историю в кафе и последующие события.
Мак молчал, впечатление было такое, будто ему неловко вспоминать о конфликте в «Астролябии», оргоп-психолог сказала, что очень хорошо понимает его состояние и, в меру сил, поможет ему. При этом она сделала очень существенную оговорку, намного облегчавшую задачу Мака: в тех случаях, когда он целиком согласен с ее суждениями или, по крайней мере, не отвергает их, вполне достаточно будет простого одобрения молчанием.
— Вы согласны? — спросила она и, поскольку Мак молчал, этот его ответ стал первым актом одобрения молчанием по договору.
Главные вопросы она приготовила загодя, однако такая предварительная подготовка, сама по себе разумная, таит известную угрозу непринужденной беседе, которая может вдруг, неожиданно для обеих сторон, обратиться в прямой допрос. Естественно, чтобы это превращение не стало реальностью, требуются немалое искусство и такт.
— Мак, — задумчиво произнесла оргоп-психолог, — сегодня такая чудесная погода. Хорошо бы сейчас погулять вдоль берега, пошвырять в море камешки, но чтобы они не сразу тонули, а сначала несколько раз подпрыгнули над водой. Мама говорит, что в детстве это было самое любимое для меня занятие. А для вас, Мак? Ну, конечно, и для вас, — тепло улыбнулась женщина, — я еще спрашиваю об этом! Все дети, когда они на берегу, швыряют камни в воду, а взрослые обязательно мешают им: не дай бог, попадешь тете в голову, выбьешь дяде глаз и вообще перестань болтаться под ногами!