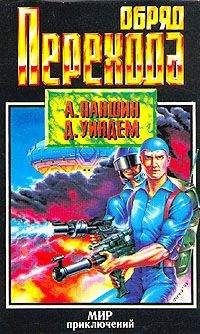Клянусь, я не сказала ему, что мой Папа, Майлс Хаверо, Председатель Совета Корабля, разрешил мне просмотреть Анналы. Честное слово, я ему этого не сказала. Но я готова была любым путем настоять на своем, и, боюсь, у библиотекаря могло создаться впечатление, что я-таки сослалась на Папу… Хотя это не так. Но, короче говоря, я получила доступ к Анналам, и это — главное.
Как я уже говорила, я нашла там некоторые интригующие рекомендации Евгеника. Этим рекомендациям было лет двадцать. Но когда я добралась до себя, точнее, до матери и Папы… Вот тут у меня волосы дыбом встали: У МЕНЯ БЫЛ БРАТ!
Да, это был удар. Я выключила видик, слова на экране растаяли, я легла на постель и долго лежала, свернувшись в клубок, размышляя. Почему мне никто ничего не рассказывал о брате — было непонятно. Смутно я припомнила, что кто-то однажды уже интересовался, кто-то прощупывал меня насчет моих братьев и сестер. Кто? Вспомнить я не могла.
Так и не разобравшись в собственных воспоминаниях, я снова включила видик. В Анналах было записано все.
Его звали Джо-Хосе. Он был почти на сорок лет старше меня и умер больше пятнадцати лет назад.
Покопавшись, я узнала кое-что еще. Джо-Хосе, видимо, не хуже меня сознавая аховое положение с художественной литературой на Корабле, сделал то, что я бы не сделала никогда — он написал роман. (Позднее я его прочла. Он был не просто плох, он был ужасен — о современной жизни на Корабле. И это дало мне основания считать, что Корабль — не самая лучшая тема для художественного произведения.) В других сферах Джо был намного компетентней. Считалось, например, что он подавал большие надежды в физике. Смерть его была результатом совершенно дурацкой случайности, несчастного случая. Его нашли слишком поздно, оживлять было уже бессмысленно. Мать очень сильно переживала его смерть.
И вот теперь, когда я все узнала, нужно было что-то предпринимать. Я просто обязана была выяснить, почему от меня скрывали факт существования брата.
Улучив спокойную минуту, я подошла к Папе и как можно безразличнее задала вопрос. Папа посмотрел на меня озадаченно.
— Миа, ты же все отлично знаешь про Джо, — сказал он. — Ты давно меня не спрашивала, но в свое время я рассказывал тебе о нем раз двадцать.
— Неделю назад я даже не знала о его существовании.
— Миа, — серьезно сказал Папа, — когда тебе было три года, ты, бывало, просто умоляла меня рассказывать тебе сказку про Джо.
— А теперь я этого не помню, — заявила я. — Сейчас ты мне расскажешь о нем?
И Папа рассказал мне о брате. По его словам, мы были похожи — и внешне, и внутренне.
Матери я не сказала ничего. Тут был какой-то барьер: я не могла говорить с ней на серьезные темы. Единственным человеком, кроме Папы, которого я посвятила во все, был Джимми, и он заметил, что, может быть, я не помнила о брате потому, что не хотела о нем помнить… И возможно, «находка» записей в Анналах тоже не была такой уж случайностью. Сначала меня это взбесило, но затем я подумала, что в словах его есть доля истины. Но с Джимми мы два дня не разговаривали.
И вот тут-то, размышляя над психологическими категориями, я задумалась о матери: почему она держит меня на расстоянии вытянутой руки? Почему она чувствовала себя несчастной, когда я жила с ней? И я решила, что, видимо, причиной тому являюсь не я сама, Миа Хаверо, как личность; из колеи ее выбивает самый факт моего существования, и она до сих пор переживает смерть Джо, хотя прошло уже столько лет. Это было похоже на правду.
Не могу сказать, что я полюбила ее сильнее, но мы сумели наладить друг с другом более теплые отношения.
За ту зиму изменилось еще кое-что. Мое мировоззрение. Это стало прямым результатом написанных мною и Джимми работ по этике.
Моя работа представляла собой сравнительный анализ полудюжины этических систем. Главное внимание я уделяла их недостаткам, заканчивая утверждением, что, хотя это и не бросается в глаза, все рассматриваемые этические системы создавались, так сказать, постфактум. То есть люди всегда поступают так, как они склонны поступать, но затем им обязательно хочется почувствовать собственную правоту, а некоторым нужно самооправдаться, и поэтому они изобретают этические системы, подгоняя их под свои склонности. Конечно, здесь нужно учесть, что, хоть я и находила выражения типа «Человечество — цель, а не средство» совершенно очаровательными, но ни одной этической системы, которая удовлетворяла бы моим собственным наклонностям, я не нашла.
Джимми пошел по иному пути. Вместо того, чтобы критиковать чужие этические системы, он попытался сформулировать свою. Она была гуманистической, но кардинально отличалась от исследованных мной. Джимми утверждал, что истинная гуманность является благоприобретаемой, но не наследуемой. К этому утверждению можно было придраться, если бы не главный козырь Джимми: он говорил скорее о категориях отношения к жизни, но не постулировал принципы. Для принципов слишком легко найти исключения. Слушая Джимми, я испытывала все возрастающее беспокойство. Не от того, что он говорил, это вполне соответствовало его взглядам на вещи, но из-за того, какого типа работу он написал. Он-то написал, а я, которая собиралась стать синтезатором, которая собиралась строить замки из отдельных кирпичиков, этого не сделала. Тут и дошло до меня, что я не делала этого никогда. Изготовление значков, постройка хижин, сборка чего угодно — все это было не по моей части, не было здесь ни грамма моей инициативы. И мне давным-давно следовало это понять.
Я не строитель, подумала я. И даже не настройщик. Это было мгновение чистого, необъяснимого откровения.
— Давайте теперь обсудим, — предложил мистер Мбеле, когда Джимми закончил. — Какие замечания приходят в голову тебе, Миа?
— Ладно, — сказала я. И повернулась к Джимми. — Почему ты хочешь стать именно ординологом?
Он:
— А почему ты хочешь стать синтезатором?
Я замотала головой.
— Я спрашиваю серьезно. Мне нужен ответ.
— Не вижу смысла отвечать. Какое отношение это имеет к этике? И вообще, о чем мы говорим?
— К этике никакого, — ответила я. — Но это имеет отношение к твоей работе. Ты не слушал самого себя.
— Миа, может быть, ты выразишься попонятнее? — попросил мистер Мбеле. — Я не уверен, что поспеваю за ходом твоих мыслей.
— Просто я задумалась о том, какую работу проделал Джимми, и какую — я. У нас был свободный выбор. И если бы Джимми действительно хотел стать ординологом, он написал бы работу вроде моей, критическую. А я, если бы действительно была создана для профессии синтезатора, написала бы работу как у Джимми, творческую. То есть все наоборот…