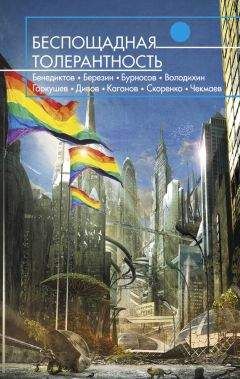– Вот кто о тебе узнает! – Пашка погладил экран. – Соображаешь?
Под его пальцами зажглась надпись «Нью-Йорк» и значок «Спецпропуск».
Шепотки про Нью-Йорк и страну «Америгу», которых нет на обычных дорожных картах, Барсуков слышал часто. Как и все, впрочем.
А Пашка разливался прокуренным соловьем. Работа, мол, непыльная. Портреты. Женские в основном. Заказчик серьезный. Ну, понятно, Пашкина комиссия. Понятно – качество и сроки.
– Есть один нюанс, – поморщился Пашка. – Ничего противозаконного, но… Впрочем, сам увидишь.
Барсукова высадили перед скорбным домом.
– Сегодня заканчивай с богадельней, – велел Пашка, – завтра выходи.
Согласия Пашка не спрашивал. Он лучше знал.
Барсуков проводил серебристый кабриолет взглядом и не удержался-таки. Выкурил еще одну сигаретку.
Альтернативно-чувствующие ждали его. Тушки… Барсуков вздохнул и в который раз зарекся думать это слово. Они были разные. Не глупые, и не умные. Не веселые, и не грустные. Почти все работали – курсы психологической реабилитации стоили дорого. Менеджеры, продавцы, консультанты. Среди них встречались тушки… люди с зачатками вкуса и способностей.
Барсуков развернул голограмму «Яблоневый сад» и предложил поработать кистью и красками. Через полчаса прошелся среди мольбертов, заранее зная, что увидит. Яблоки, одни только яблоки. Красное и желтое. Тушки… люди выбирали самое яркое из того, что видели. Словно мотыльки.
У крайнего мольберта пухлая девушка задумчиво грызла кисть. Губы, щеки стали зелеными, и Барсуков заинтересовался. Девушка нарисовала небо и яблоневые ветви, протянутые к небу словно руки. Надо же… Как ее зовут?
«Я Маша» – прочитал Барсуков на бейджике и застыдился.
– Плохо, да? – спросила Маша с непоколебимой уверенностью человека, у которого всегда все плохо.
Конечно, рисовала она из рук вон. Но рисунок Барсукову неожиданно понравился. В нем был намек на чувство.
– Все сегодня наперекосяк! – пожаловалась Маша, не дожидаясь ответа. – Скажите, господин Барсуков… – Девушка замялась, но продолжила: – …как опытный и эмоционально развитый гражданин, объясните, что такое любовь?
Барсуков потерял дар речи.
– Как определить? – напирала Маша. – Я познакомилась с молодым человеком. Он… ну, немного не такой, как все. Я не могу понять, люблю его или нет.
И Барсуков вспомнил. Месяц назад ему дали группу новеньких, и кураторша не пощадила, заставила похмельного Барсукова изучить дела.
«У этой, – вспомнилось Барсукову, – наркозависимые родители. Ей еще повезло, руки-ноги-голова на месте. Работает консультантом в обувном магазине. Абсолютная эмоциональная глухота. Как пробка, господи прости».
Маша тарахтела, аки суздальская трещотка, и Барсуков быстро уяснил, что необычен молодой человек, во-первых, пламенными речами, а во-вторых, банальным отсутствием жилья. Маша, как девушка инстинктивно добрая, бродягу пустила и в третью ночь (как советовала методичка – не раньше) совершила с ним добровольный коитус. Молодой человек предложил руку и сердце (как подозревал Барсуков – в обмен на доступ к холодильнику). Маша сверилась с методичкой и взяла тайм-аут. Теперь тайм-аут истекал, а четких указаний – «да» или «нет» – методичка не давала. Явная недоработка. Крепким обувным умом Маша понимала, что замуж надо. Но мировая медиакультура дезориентировала девушку. Замуж следовало по любви, и Маша прилежно ее искала. Замеряла пульс и давление, вела дневник мыслей и эмоций, но сделать вывод затруднялась.
Барсуков в смущении пролистал дневник. Парочка любилась с неутомимостью паровой машины. Отличить любовную тахикардию от посткоитального сердцебиения не представлялось возможным.
– Ой, это не мое! – Девушка вдруг покраснела и затрепетала ресницами. – Не знаю, откуда это!
Барсуков выхватил из дневника лист тонкой прочной бумаги, разрисованный линиями и значками. Скомкал и воровато сунул катышек в карман. Кажется, не заметили! А эта… и впрямь как пробка! Тушка чертова!
Маша смотрела взглядом готовой к забою коровы. Будто сейчас Барсуков прокусит ей уши клеммами, запустит разрядник, и отойдет она, тушка Маша, не успев даже обмочиться.
Барсуков перевел взгляд на рисунок: ветви тянулись к небу в немой мольбе.
– Гони бродягу, – сказал он жестко. – Подведет тебя под статью.
Настроение резко испортилось.
Барсуков ушел прямо с занятия, написал заявление, получил расчет, выкурил-таки еще сигаретку и помчался домой. Дома ждал дерьмовый – Барсуков не отрицал, – но сладкий вискарек.
Работа оказалась и впрямь непыльная: сиди в просторной студии, работай по профессии. Но капелька дегтя в бочке меда плавала.
Натурщицы.
Барсуков видел их только издали и не горел желанием познакомиться.
«Кунсткамера, – объяснил Пашка. – Уродство, ставшее красотой. Пиши уродов, Барсук, пиши! Рынок требует остренького!»
Моделям отвели просторные апартаменты, увешанные полупрозрачными зеркалами, сканерами и камерами. Натурщицы слонялись по апартаментам отведенные часы, спали, кололись, вязали, пили, кто-то даже читал.
Художники за стеной работали. Барсуков буквально за неделю оформил «живыми» красками безногую тетку, бывшую олимпийскую чемпионку, подсевшую, судя по расплывающемуся взгляду, на что-то окончательное. Портретец вышел так себе, хотя и жил, как положено. Отзывался на настроение хозяина – чемпионка то улыбалась, то хмурилась, то рыдала навзрыд. Пашка быстро его пристроил, но Барсукова выматерил.
– Чемпионку помнят, – объяснил галерист, – поэтому взяли и не хрюкнули. Но меня, Барсук, за лошка держать не следует! Или работай, или взад к дебилам проваливай.
Барсуков усиленно работал, и даже с вискариком практически завязал. Все ждал, когда вернется форма, когда придет легкая кисть, которой до слез, до скрежета зубовного завидовал во времена оны бездарь Пашка.
Через месяц чемпионку снова привезли, с почерневшими руками.
«Три дня, и в хоспис», – сказал врач, и Барсуков трое суток отработал на ять. Чемпионка смотрела с портрета звериным взглядом умирающего человека.
– Пойдет, – залоснился удовольствием Пашка. – Хвалю, отдыхай.
Вернувшись из краткосрочного отпуска, Барсуков увидел в студии, в уголке за вешалкой, мальчика.
– Ты кто, малыш? – спросил Барсуков.
Мальчик промолчал.
– Мужчина, у вас какой-то интерес к ребенку? – вкрадчиво поинтересовался некто в дорогих очочках и легкой небритости.
Не студия, а базар, огорчился Барсуков, торопливо отстраняясь от мальчика. Ни господина в очках, ни свиноподобного амбала за его спиной Барсуков не помнил, хотя в студии действительно царил восточный базар: здесь работали, ели и спали.