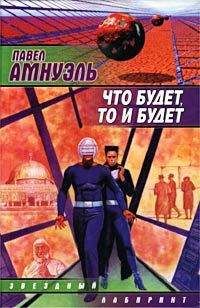— Товарищ посол демонстрирует, как из твердого тела получать воду, мгновенно сориентировался Ильич, продемонстрировав недюжинность своего ума.
— Лучше бы, — сказал Сталин, — товарищ посол продемонстрировал бы нам, как расправиться с Деникиным. Царицын в кольце. Клим паникует.
— Завтра же выезжайте на фронт, — сказал Ленин. — Вечером соберем секретариат и дадим нужные мандаты. С этой белой сволочью…
Он осекся, метнув быстрый взгляд в сторону Гусмана. Льву Абрамовичу показалось, что во взгляде этом была вовсе не обеспокоенность состоянием дел на Южном фронте.
* * *
Утром Гусман обычно вставал с трудом. Почему-то в девятнадцатом году прошлого века ему гораздо больше хотелось спать, чем в своем обычном времени. Возможно, тому была вполне реальная физико-биологическая причина.
Он встал, сделал зарядку, поднял с постелей спавших в соседних комнатах Бендецкого и Фабера, и только после этого отключил защитный экран, отделявший на ночь помещение посольства от окружающего пространства-времени. Предосторожность была не лишней.
Позавтракали яичницей и совершенно некошерным салом, после чего Фабер отправился за газетами. Вернулся он несколько минут спустя с пустыми руками.
— Господа! — воскликнул он с порога. — Победа!
— Не хочешь ли ты сказать, — проявил интуицию Гусман, — что на вчерашнем заседании секретариата Ильич провел резолюцию о выводе Сталина из ЦК и исключении из партии?
— Арье, — сказал Фабер, отдышавшись, — в тебе говорит дипломатическая ограниченность. Сталин получил все полномочия и отправился на вокзал прямо с заседания. Но… По дороге машину обстреляли наймиты буржуазии, и бедный Коба получил три пули. Умер мгновенно.
— Ну, Ильич и дает… — сказал Гусман.
* * *
Израильские дипломаты участвовали в похоронах Кобы, смешавшись с толпой военных и гражданских на Красной площади. Гроб пронесли к стене, и Владимир Ильич, стоя на сколоченной деревянной трибуне, произнес речь. Буржуазия не может смириться… Не забудем роль Сталина в революции… Без него мы как без… Но все равно… И так далее.
А потом Кобу опустили в могилу — как раз на том самом месте, где его захоронили по указанию Никиты Сергеевича несколько десятилетий спустя. Было ли это исторической предопределенностью, или просто игрой случая, посол Гусман так и не узнал.
Отомстим за Сталина! — сказал Ильич. И отомстили. Царицын отстояли, Деникина отбросили, Россию спасли.
И Ленин объявил НЭП. Рановато, вообще говоря, можно было подождать, но Ильич хорошо усвоил урок израильтян. Со Сталиным-то они оказались совершенно правы. После смерти Кобы в его квартире были найдены дневниковые записи и кое-какие предметы… С послом Ленин был сдержан, и Гусману пришлось лишь строить догадки о том, что за дневник вел Сталин и существовал ли этот дневник вообще. Что до народа, то послесмертный лик Кобы остался для него незамутненным…
Со Сталиным израильтяне оказались правы. Значит, они правы и в остальном. НЭП — спасение России. Даешь НЭП!
* * *
Жить анахоретами было не очень весело. Скучали по дому, по израильской пище, фалафель представлялся недостижимой мечтой. Ностальгия для дипломата — штука недопустимая. А если подпирает?
Фабер уже дважды побывал в отпуске, а Гусман все никак не мог выкроить время — за четыре года отдохнул пару раз в Железноводске, да еще в Питер съездил, удовлетворил давнюю мечту: побывать в Петродворце. Бендецкий, после того, как главкомом назначили Тухачевского, сдружился с этим замечательным человеком и, когда Врангеля сбросили в Черное море, а Колчака уговорили стать Президентом Сибири, израильский военный атташе принялся натаскивать нового друга, объясняя ему преимущества ракетных войск перед даже танками. Бендецкому было не до отпуска — он творил историю.
В двадцать третьем Россия продала за рубеж больше зерна, чем в пресловутом тринадцатом году. Впрочем, насколько понимал Гусман, в провинции жизнь легкой не стала, но и голода в Поволжье, о котором он читал в учебниках, тоже не случилось. Такая огромная страна, разве ее за несколько лет поднимешь? Правда, не нужно было бросать, чтобы поднимать не пришлось, но это уж другая проблема.
От премьера Визеля Гусман получил хорошее теплое письмо с благодарностью за службу отечеству и написал в ответ, что хочет остаться в России до конца. Премьер понял, что имеет в виду посол, и ответил коротко: «Оставайся».
С Лениным Гусман вел долгие беседы о мировой системе капитализма, о роли пролетариата, информацию выдавал дозированно и только ту, что была разрешена контрольным советом Мосада. Гусман вовсе не надеялся, что ему удастся склонить вождя к тому, чтобы вернуть Россию прежним хозяевам.
Но первые демократические выборы двадцать третьего года — заслуга посла Израиля в России.
И первая большая радиостанция на Шаболовке — тоже.
И первую электростанцию Ильич, несмотря на сопротивление Бонч-Бруевича, заложил лично, а Гусману позволил бросить лопату песка.
Все шло хорошо. Вот только здоровье, его-то никакими израильскими советами не поправишь. Осенью двадцать второго Ильич слег. После весны двадцать третьего доверительные беседы прекратились — вождь едва двигал тяжелым языком, а к осени и вовсе замолчал, только глаза выдавали натужную работу мысли, не способной найти выход и потому медленно, но верно убивающей организм. Мысль, если не давать ей выхода, отравляет так же, как продукты распада…
Как и положено, Ленин умер 21 января 1924 года. Траурный митинг должен был открыть Тухачевский, который считался по праву единственным продолжателем дела Ленина. Бухарин, третий человек в государстве, должен был произнести речь.
* * *
Всего не учтешь, и часто история меняется из-за элементарной забывчивости.
Гусман забыл о Троцком.
А почему он должен был помнить? После гражданской пламенный Лев Давидович был отодвинут на второй план еще более пламенным Тухачевским. Кем был Троцкий в двадцать третьем? Всего лишь заместителем наркома по делам национальностей. Пешка, вот и забыли.
В ночь перед похоронами вождя Тухачевский, возвращаясь в свою кремлевскую квартиру, неосторожно поставил ногу на верхнюю ступеньку, не удержался и покатился по лестнице. Перелом шейных позвонков, умер на месте.
И траурный митинг открыл Троцкий.
* * *
— Отозвали меня осенью двадцать четвертого, — сказал Арье. — Новым послом назначили Фиму Котлярского.
— Мы же с ним учились в университете! — воскликнул я.
— Он был послом аж до тридцать третьего. А потом…