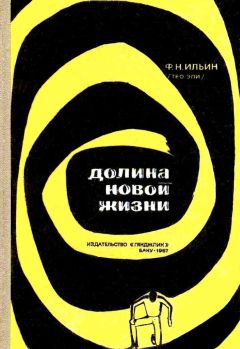— Человечество, — сказал он, — скоро перестанет увеличиваться, прирост народонаселения падает. Прежде всего погибнут культурные нации. Никто там не желает иметь детей. Миллионы зачатий прерываются всякими искусственными мерами. Всевозможные ухищрения и технические приспособления распространяются все шире и шире для предупреждения зачатия. Система двух-трехдетного брака становится недоступным идеалом. Государство бьется в борьбе с падением прироста; поощрительные меры, вплоть до премий, не приносят пользы. Человек, умеющий регулировать деторождение, но стонущий от тягостей жизни, утратил инстинкт родителей к детенышу. Женщина, вступившая на путь социальной борьбы, принужденная конкурировать с мужчиной, лишается не только чувства материнства, но и способности вынашивать в себе плод и производить его на свет. Она не желает больше быть инкубатором. При таких условиях люди обрекаются на гибель, между тем как задачи, которые ставит нам наука, требуют для решения их все большего и большего количества работников. С тех пор как открылась возможность добывать питательные вещества непосредственно из воздуха, воды и почвы, не может быть разговора о голодной смерти перенаселенного земного шара. Источники и запасы средств для жизни неисчислимы.
Четвертый оратор явился, чтобы разрешить вопросы, поставленные предыдущими ораторами. Он показал устройство и жизнь нового мира, пока еще небольшого, уместившегося в Долине Новой Жизни, и закончил с большим подъемом словами, полными убеждения и веры в то, что человечество будет спасено, когда принципы здешней жизни распространятся по всем странам.
Длинная пауза после каждой из этих речей не означала антракта. Все сидели на своих местах, как будто что-то обдумывая. Я отодвинул кнопку предохранителя и убедился, что главные тезисы докладчиков вколачивались в головы слушателей с помощью внушения.
Во время долгого перерыва публика получала напитки и сласти, которые подавались на маленьких подвижных столиках, разъезжавших по рельсам среди рядов. Затем началась самая интересная часть вечера. Я смотрел на эстраду, на которой были расставлены цветы, составлявшие чудный, необъятный букет. Я не знал, на что именно должен обратить внимание.
Петровский сказал мне, что я буду переживать различные настроения, и, действительно, в течение следующих полутора часов я испытывал целый спектр чувств. Сначала в моем сознании появилась какая-то досада, тоска, угнетение, какие-то противоречия; что-то недостижимое давило меня. Все это нарастало и нарастало, пока не превратилось в бурю негодования, возмущения, какого-то умственного бунта. Когда это чувство сделалось невыносимым до боли, когда хотелось вскочить, завопить на весь зал, ломать мебель, крушить и бить кого-нибудь, хотя бы соседа, вдруг наступила резкая перемена. В душе разлилось что-то тихое, спокойное, радостное, появилось стремление к чему-то прекрасному. Мысли, несвязные, непередаваемые, но увлекающие, обрывки фраз и слова, как музыка, проносились в голове. Потом последовал период успокоения, и вот — буйная радость, смех, веселье и дикий хохот.
Я переживал всю эту смену настроений; я решил не препятствовать себе, отдаться им, и испытывал в полной мере все то, что испытывали другие. Я думаю, что мое лицо, взгляды, жесты я мог, как в зеркале, видеть на окружающих. Они сидели задумчивые. Тоска отражалась в их глазах. И вдруг они бросали гневные взоры, они скрежетали зубами и посылали проклятья. Затем они как бы устремлялись вдаль, и взоры их становились ласковыми, умиленными, жалость сжимала сердце, и слезы капали из глаз; потом смех душил их, и они не старались бороться с приступами веселья, выражавшегося у некоторых довольно диким образом…
Когда все кончилось, и мы вышли в сад, где между деревьями висели разноцветные фонари, я почувствовал себя обновленным, как будто вновь родившимся на свет; мне казалось, что мозг мой был основательно выстиран, выветрен, накрахмален и выглажен. Вид Петровского и Кю ясно говорил, что они испытывали то же самое. Петровский, потирая руки, сказал:
— Превосходно, восхитительно! Ничто не может сравниться с этим ощущением. Здесь люди не испытывают горя, несчастья, любви, ревности и высоких порывов наслаждения. Они не видят комедий и драм, они не знают ощущений, вызываемых музыкой, они не читают романов, но они нуждаются в переживаниях всей гаммы чувств так же, как человек нуждается и в горьком, и в соленом, и в сладком. И то, что им дается здесь — это более надежно и менее опасно, куда полезнее для здоровья, чем то, что получает человек в старом мире.
В этот вечер я приобрел многочисленные новые знакомства среди работающих в инкубаториях и детских колониях.
Здоровье мадам Гаро улучшалось. Возвращаясь с работы по постройке новых шлюзов, я мог просиживать около ее кровати часами. Она отличалась теперь неразговорчивостью и только изредка произносила отдельные слова. Посетителям же было запрещено разговаривать.
С каждым днем взгляд ее становился бодрее и оживленнее: легкий румянец появлялся на щеках. Скоро ее вывезли в сад в кресле на колесах. Она начала разговаривать. Разговор ее касался разных домашних событий, разных виденных ею в последние дни лиц, но никогда не возвращался к прошлому. Как будто все, что было до ее болезни, не существовало. Делала ли она это умышленно, или действительно пострадала ее память, я не берусь судить. Мы, все ее близкие, были очень рады этому забвению прошлого.
Мадам Гаро узнавала всех, помнила имена, ориентировалась в окружающей обстановке, говорила вполне разумно, и вообще в ней не было заметно каких-либо странностей.
Часто приходил осторожный Карно, прибегал веселый Мартини; к нашей компании присоединялся солидный папаша Фишер. Мы вели беседу между собой, шутили, смеялись, а мадам Гаро слушала, переводя свой пристальный взгляд с одного на другого.
Мартини в последнее время отличался особой веселостью, даже игривостью.
Он с комизмом, достойным актера, передавал свои затруднения, которые возникают у него на работе в Женском сеттльменте.
— О, женщины, женщины! — воскликнул он. — Я всегда боялся вас, но я никогда не видел такой массы женщин, получивших полное равноправие с мужчинами. Это ужасные существа.
Он рассказывал о многих своих помощницах и подчиненных, но никогда не упоминал о той, которую видел я на станции. Мартини стал больше обращать внимания на свою наружность, лучше одеваться и ходил какой-то подпрыгивающей молодой походкой.
Хлопоты Мартини через Педручи и влияние Тардье привели к тому, что пребывание мадам Гаро здесь, у Фишеров, затянулось, и, наконец, о возвращении ее в Американский сеттльмент никто уже не говорил. Мадам Фишер выказывала самое заботливое к ней отношение, и мне кажется, что эта любвеобильная женщина включила мадам Гаро в число членов своей семьи.