Значит, не удалось взять чужака саблей, и Лидия Андреевна перевооружается. Очень мило, посмотрим, чего можно ждать от дудки. Поднять, что ли, трубу и задудеть? Нет, в комнате нельзя, в базисной точке вообще не следует совершать необдуманных действий. Ты нашумишь не подумавши, а старушка умом повернется. Страшное дело, если в центре мира, где все должно быть неизменно и безопасно, прозвучит жестяной сигнал тревоги. Реакция в таких случаях непредсказуема. Чужая душа – потемки, даже если в ней царит солнечный день.
Игнат вышел в коридор… нет, прямо во двор. И это был сразу городской двор, безо всякой зеленеющей травки. Хотя солнышко блестит, без этого Лидия Андреевна, видимо, не умеет. И тесный проход между сараями – на месте, приглашает зайти. Просто и навязчиво: в коридоре тебе делать нечего, на лестницу, где, несомненно, обитают мелкие страхи, даже в прошлый раз не пустили, а сюда – милости просим.
На земле перед самым проходом свалена куча дров, причем не поленьев, а старых шпал. Их еще пилить предстоит и колоть. Не позавидуешь тому, кто, позарившись на дешевизну, купил списанные шпалы. Намучается он с ними и пилу заездит вусмерть. Зато горит пропитанная креозотом древесина жарко и дымно.
На одной из шпал, не глядя в сторону Игната, сидит Шурка. Ноги на месте, нормальные мальчишеские ноги, на правой коленке – царапина. В руках у Шурки, конечно же, жестяная дудка. Что и требовалось доказать.
Сейчас от Игната ждут, что он заговорит с парнем, например сделает замечание, что сидеть на плахе не следует, штаны будут испорчены, смоляное пятно никакая стирка не возьмет. Не исключен и другой вариант, что Игнат сразу зайдет в промежуток между сараями и окажется в ловушке. Вряд ли удастся выйти назад через шпалы, как бы деревянные плахи не стали плахой в ином смысле слова.
На дворе – дрова, на дровах – братва, у братвы – трава… Нет, у братвы – труба. Ему, Игнату, труба.
А вот мы сейчас сделаем иначе и подыгрывать бабушке не станем. Не я за тобой буду бегать, а ты за мной побегай!
Игнат развернулся и, пройдя через подворотню, вышел на улицу.
Обычная улочка старого Петербурга, они и сейчас почти не изменились. Даже район угадывается: Петроградская сторона. Если напечатать это название на компьютере, то глупый «Ворд» не поймет написанного и предложит замену: «Ретроградская сторона». И, между прочим, будет прав.
У стены сидит нищий – безногий калека. Игнат внутренне напрягся: «Начинаются дни золотые…»
Обычный, неприметный дядька… серое, давно не бритое лицо, в которое навеки впечаталось покорное безразличие. Обрубок тела усажен на тележке, махонькой, только поместиться. Вместо колесиков – четыре подшипника, вынесенные с завода. Рядом ручками вверх стоят подбитые резиной калабахи, с их помощью инвалид передвигается: отталкивается от мостовой и едет, покуда сила в руках есть. Но сейчас он просто ждет, когда мимо пройдет сердобольный прохожий. Перед нищим на тротуаре мятая алюминиевая миска, должно быть, в нее прохожие кидают копейки. А ведь, судя по эпохе, ноги он потерял на войне. Это в наше недоброе время любой пропойца, по пьянке ставший инвалидом, облачается в камуфло и корчит из себя раненого афганца, в пятидесятых попробуй искалеченный солдат выползти за милостыней не то что при медалях, но просто в старой гимнастерке – мигом заметут в участок, а следом – в специнтернат, ничем по сути от тюрьмы не отличающийся. И не посмотрят, что был ты героем, а стал калекой. Изувеченный воин не должен смущать граждан победившей страны.
Игнат шел, стараясь не глядеть. Руку в карман не сунул, и без того ясно, что там пусто и подать милостыню давно умершему, живущему лишь в памяти Лидии Андреевны инвалиду не удастся.
Проходя мимо, покосил глазом. В миске у нищего вместо копеек лежали вареные макароны. В последнее время такие снова появились в продаже: толстые, серые… Но прежние макароны еще и разваривались, а остыв, слипались в неопрятный клейстерный комок. Клейстерный или клистирный?.. тьфу, пропасть, опять все не просто так, все с подтекстом самого неаппетитного свойства.
Нищий ел, отлавливая толстыми немытыми пальцами по одной макаронине.
Мимо Игната протиснулся невесть откуда объявившийся Шурка, приспустил штаны и принялся писать прямо в миску, на макароны.
Нищий ел.
Подавив рвотный позыв, Игнат быстро пошел прочь. Шагов через пять оглянулся. Шурка продолжал свое занятие. Жестяная дудка была зажата под мышкой.
– Ничего личного, – пробормотал Игнат.
В самом деле, происходящее, скорее всего, не направлено против пришельца. Скажем, Лидочка в детстве страдала ноктоэнурезом. Не опасная, но стыдная для пятилетнего ребенка болезнь. Не было среди маленьких детей большего оскорбления, чем сказать другому, что он ночами рыбу в постели ловит. А дальше абсолютно по Фрейду происходит перенос: вовсе и не я писаю где попало, а Шурка. Знать бы еще, кто таков этот Шурка, совсем хорошо было бы.
Хуже всего, если никакого Шурки в природе не существовало, а просто Лидия Андреевна компенсированная трансвеститка. В таком случае Шурка – это она и есть… Впрочем, трансвестит бы непременно обустроил свой быт по-мужски, а комнаты, что реальная, что отправная точка подсознания, явно носят следы женской руки. Занавесочки, шкатулочки, картиночки… маленькая кошечка охотно играет с мальчиком. Так что этот вариант можно отбросить.
Оставив позади безногого нищего, Игнат свернул за угол и очутился на шумной улице.
Удивительная вещь – шумная улица! Подобное образование можно встретить в подсознании почти любого человека, хотя иногда это не улица, а, скажем, шумная комната. Ее глубинный смысл – одиночество в толпе и взаимное непонимание. Идешь по дороге или сидишь на диване, кругом куча народу, но никого не видно, сфокусировать взгляд на окружающих не удается. Звучат голоса, крики, смех, плач, но ничто не касается сознания, все проходит мимо, все на уровне белого шума. Лишь иногда какой-либо образ впечатывается в память, и потом человек сам не может понять, откуда вылезли неопознаваемые, но отчаянно знакомые запахи, незнакомое, но родное лицо, безумные, но непременно многозначительные слова:
Ходил монах, стремясь от мира непоседицы,
Скрывался он в глуши на дальних берегах,
Хранил монах, хранил червонные медведицы,
Златых медведей где-то там хранил монах.
Зачем тебе это, если ты не поэт, и откуда эта бредятина выползла? А она именно оттуда, с шумной улицы.
Никто из коллег Игната в таких местах бывать не любил. Беспокойства много, а толку – чуть. Но иногда и там можно подслушать или подглядеть нечто важное. В практике Игната один подобный случай был.
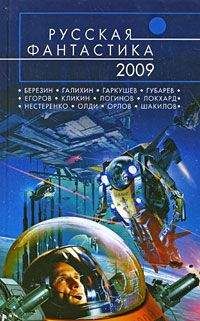
![Святослав Логинов - Картежник [сборник]](https://cdn.my-library.info/books/56230/56230.jpg)



