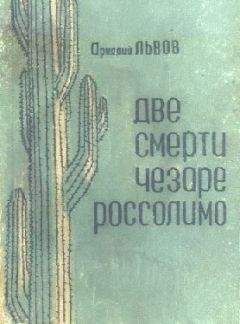— Почему?
— Почему? — повторил он. — Я думаю, просто потому, что Чезаре Россолимо уделял эти часы проблемам, которые не имели, — Кроче дважды оглянулся, — прямого отношения к программе нашей лаборатории.
— Не понял, Витторио, — сказал я, — еще раз, если можно.
Это была ложь: я отлично понял его мысль. Больше, я поняд, что истинные занятия Россолимо не были для него тайной и прежде, что он только ждал момента, когда исследования Чезаре дадут конкретный теоретический или практический выход — и тогда Чезаре уже не будет нужен, тогда можно будет разделаться с ним.
— Я убежден… да, убежден, Прато, — продолжал он уверенно, — что у Россолимо были сподвижники в Пизе, и этим людям зачем-то понадобилось убить его.
— Не исключено, Витторио, — прежде чем согласиться, я помедлил, чтобы создать видимость раздумья, — но никаких следов насилия на теле Россолимо не обнаружили.
— Бог с вами, Умберто, вы рассуждаете, как первоклассник, — воскликнул он. — Будто вы не знаете, что люди почти ничего не смогли добавить к способам созидания жизни, но зато бесконечно разнообразили способы ее уничтожения!
Да, подумал я, и тебе это, конечно, известно лучше, чем кому бы то ни было другому.
— Но не забывайте, Витторио, все это лишь предположения, и я, признаться, не вижу, как бы они могли стать доказательствами.
— Не видите, — пробормотал он, — не видите, и я не вижу. Но если найти тех людей в Пизе…
— Каких, Кроче? Ведь те люди — тоже предположение.
— Послушайте, — расхохотался он вдруг, — но ведь я — тоже предположение, и вы, Умберто, — предположение, и вообще, возможно, весь этот мир — всего лишь предположение!
— Возможно, Витторио, но уголовная полиция не очень увлекается солипсизмом — ее больше интересуют факты.
— А почему же, — разорался он, не заботясь уже ни о приличиях, ни о тайне, — вам не понадобились доказательства, чтобы увидеть убийцу во мне, почему для этого оказалось достаточно ублюдочных предположений?!
— Витторио, дорогой! — Клянусь, я никогда не допускал, что умею так искусно притворяться. — Одумайтесь! Одумайтесь, прошу вас.
Кроче живет на улице д'Аннунцио, на пятом этаже восьмиэтажного дома с плоскими, почти без выступов, стенами. Впрочем, без выступов, если не считать выступами сами стены — относительно лоджий.
До подъезда Кроче, третьего от угла, мы шли молча. Однако я не чувствовал никакой неловкости от этого молчания. Неловкость — просто искаженное сознание или ощущение вины перед человеком, а у меня, хотя я всячески изображал скорбь, не было, разумеется, ни того, ни другого. Расставаясь, он протянул мне руку. Я подумал, что надо бы в нынешний раз пожать ее крепче, но тут же сработала другая мысль — нет, не надо: он должен быть уверен, что ничего особенного не произошло, что нет нужды в каком-то особенном рукопожатии.
— Я виноват, Умберто. — Голос у него был вялый, невыразительный, как будто никакие укрытия уже не нужны были ему. — Я нагородил вздора. Это от переутомления. Завтра же попрошусь в отпуск.
— Да, Витторио, завтра — и не надо откладывать.
Он улыбнулся. Улыбка была добрая, с тем еще не вполне преодоленным чувством досады на себя, которое бывает у очень совестливых и щепетильных людей. Но губы — не глаза, а губы! — опять выдали его: у расслабленного, размагниченного человека губы непременно утрачивают напряженную четкость линий, а у него, едва он перестал улыбаться, они приобрели жесткость непроизвольного мышечного усилия. Нелепость, конечно, но где-то поблизости я отчетливо ощущал панцирное чудище со вздыбленным роговым гребнем.
Через неделю после этого разговора Кроче ушел в отпуск. И в первую же ночь отпуска Витторио Кроче не стало — он был задушен в своей спальне, на пятом этаже восьмиэтажного дома, по улице д'Аннунцио, 25.
Смерть Витторио потрясла Болонью. И не потому, что Кроче был крупным ученым, который делал честь своему городу. Напротив, я бы сказал, что подлинная популярность пришла к нему слишком поздно — со смертью. Тогда, собственно, наши дорогие сограждане только и узнали, что они потеряли большого человека.
Вечерние и утренние газеты в течение целой недели на первых полосах сообщали новые подробности убийства Витторио Кроче. Но у всех этих новых подробностей была одна общая слабость — они начисто перечеркивали предыдущие сообщения и так, надо сказать, убедительно, что даже самые мужественные и стойкие читатели не решались уже заглядывать в газеты.
Впрочем, было бы несправедливо осуждать за это репортеров, потому что дело Кроче действительно отдавало ночными кошмарами, которым положено бесследно растворяться в первых же лучах солнца. Но в нынешний раз солнце всходило, солнце висело по четырнадцать часов над городом, а кошмары не проходили. И надо сказать, это были истинные кошмары, под стать тем, что случаются только в сновидениях.
Я уже говорил, что Кроче жил на пятом этаже, что над ним было еще три этажа, а под ним — четыре, если не считать полуподвального складского помещения. С женой и сестрой он занимал четырехкомнатную квартиру. Но с июня он один оставался в этой квартире — жена и сестра уехали на лето в Бриндизи, на Адриатическое побережье. Рабочий кабинет Витторио выходил окнами на улицу, а спальня, примыкавшая к нему, — внутрь квартала. Работал Кроче исключительно в кабинете, но, по свидетельству жены, хотя он засиживался там до двух-трех часов ночи, не было случая, когда бы там же, в кабинете, он располагался на ночлег. Собственно, в этих показаниях и не было нужды: педантизм Кроче общеизвестен. К тому же, из мебели у него в кабинете были только кресло, стол и два стула. Ну, еще книжные полки вдоль стен — справа и слева от окна.
А нашли его именно в кабинете — на полу, с подостланной под него простыней и уложенной под голову подушкой. По первому впечатлению, он здорово смахивал на спящего человека, который сам, без посторонней помощи и постороннего вмешательства, устроился на ночлег. Но, пожалуй, именно это и было одним из главных обстоятельств, совершенно сбивавших с толку следствие. Принять эту насильственно приданную Кроче позу за преднамеренную имитацию естественных и самостоятельных его действий никому не приходило в голову, потому что, во-первых, она нисколько не заслоняла самого факта убийства, а, вовторых, абсолютно не вязалась с безукоризненной, если так можно выразиться, техникой всех прочих элементов преступления. Как это ни дико для конца двадцатого столетия, но трудно было отделаться от мысли, что нелепое, с точки зрения здравой житейской логики, действие могло иметь какой-то ритуальный смысл. Впрочем, истолковать или хотя бы как-то ограничить смысл этого ритуала тоже не было никакой возможности, но многие ухватились за него как раз по причине того, что ритуал есть ритуал — темные действия, логика которых безнадежно затерялась в глубине веков.