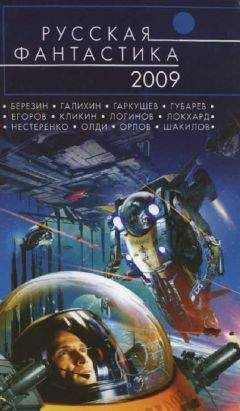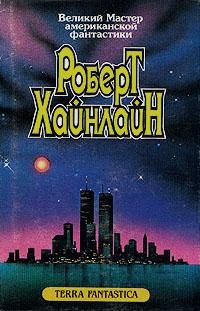— Эфра, он же борется за корону Весеннего Властителя, а Весенний не должен быть женат, — глотая слезы, напомнил поэт. — Ему полагается крутить любовь со многими девушками, а то народ не поймет, традиция ведь!
— Не беда, поженимся летом, когда он снимет корону и станет гранд-советником, а до тех пор я буду первой фавориткой, — возразила Эфра деловым тоном, как будто речь шла о работе регистраторши или машинистки.
— Он ревнивый? — тревожно хлопая ресницами, поинтересовался Стефан.
— Не то слово, — от мечтательно-мстительной, почти угрожающей усмешки, озарившей на мгновение лицо девушки, ему стало не по себе. — Да, если что-нибудь надумаешь насчет эпиграмм, приходи сюда, это наше кафе. Господин Петерсон будет в курсе, — она кивнула на дверь, из-за которой доносился плеск воды. — Заплатят хорошо, не беспокойся. Больше, чем заплатили бы у других кандидатов.
— Я подумаю.
Он никогда не писал эпиграмм, считал это занятие бессмысленным злобствованием. И зачем нужны деньги, если отношения с Эфрой, не успев начаться по-настоящему, рассыпались бесформенной снежной кучей… Собрать и слепить заново? Но для этого нужно обоюдное желание, в одиночку ничего не получится.
— Мне пора, — она встала, набросила на плечи сверкающий белым мехом и серебряным шитьем жакет. — Выслушай внимательно, что я сейчас скажу. Ты хотел мне помочь, только поэтому предупреждаю. Прими к сведению с первого раза, повторять не буду. Если вдруг я назначу тебе свидание…
— Значит, надежда все-таки есть? — встрепенулся поникший Стефан.
— Ни в коем случае не приходи, — сухим тоном, не глядя ему в глаза, продолжила Эфра. — Беги как от огня, понял?
— Почему?..
— Я же сказала, второй раз повторять не буду. Прощай.
Он ринулся следом, чуть не налетел на дверной косяк, шатко спустился по лестнице следом за ней. Успел увидеть, как мелькнул край юбки из блестящего голубого атласа и захлопнулась дверца автомобиля.
Уже потом, забрав из кафе свою куртку на собачьем меху и сумку с афишами, на улице, посреди зябкой пляски снежинок, Стефан осознал, что не далее как полчаса назад выпил чашку настоящего черного кофе. Неслыханная роскошь, в конце-то зимы, а он проглотил драгоценную жидкость как воду, не ощутив ни вкуса, ни аромата.
Зарплату не платят, а если о ней заикнуться, директор театра уставится на тебя с таким выражением, точно увидел клубок личинок или трехногую курицу, выдержит томительную паузу, чуть-чуть переигрывая, и наконец спросит: «А что ты, милый мой, сделал для того, чтобы у нас появились деньги?»
Стефан, положим, мог бы отчитаться: он расклеивал по всему городу афиши новаторского квадроэсхатологического спектакля «Магдалина на земле и на небе», вдобавок предложил свою пьесу, которая намного лучше провальной «Магдалины», — сами виноваты, что до сих пор не посмотрели. Но все равно тушевался, как и все остальные.
Кормился он где повезет, словно неприхотливая городская птица. Потерял верхнюю пуговицу от куртки, зато нашел на улице хорошую теплую перчатку.
Все чаще его искушала мысль: а не написать ли на пробу две-три эпиграммы? Как минимум полноценный обед… Но каждый раз получалась такая графомания, что стыдно было кому бы то ни было это показывать. Предвыборная ругань — не его амплуа.
В душе роились совсем другие стихи — печальные, неистовые, пронизанные серебряными напевами метели, заметающей следы Эфры на стылом тротуаре.
Из-за той мархенской истории Эфра перестала быть собой, превратилась в заледеневшее изваяние, но, может быть, когда она прочитает стихи, которые посвятил ей влюбленный поэт, случится чудо и все выправится? Он верил в силу слова и в то же время в глубине души чувствовал, что никакие слова тут не помогут.
«Она столкнулась с этими человеческими отбросами и теперь видит вокруг только одно, не замечая всего остального. Как будто на свете нет ничего, кроме помойки. Ей надо было родиться в большом городе, тогда бы все вышло иначе. Здесь бы нашлось, кому за нее заступиться, и она бы не разочаровалась в любви. Надо было сказать ей об этом, а я, как всегда, крепок задним умом… Когда пишешь, можно сколько угодно исправлять и менять каждую строчку, а в споре что произнес вслух — уже не отредактируешь. Слово не воробей, не вырубишь топором. Господи, есть-то как хочется… Сделать, что ли, еще одну попытку? Обещаньями да кашей всех накормит радость наша, выдвиженец-пустобрех… Ага, пальцем в небо!»
Если бы Максимилиан Келлард был пустобрехом, все было бы не так страшно. Да только Стефан нутром чувствовал: когда этот парень дорвется до власти, он и впрямь заведет те порядки, о которых говорит в своих пламенных речах, из самых лучших побуждений, и придется ходить по струнке, пока лето не наступит.
И все-таки, если честно, ужас как хотелось написать эпиграмму не на Келларда, а на его главного соперника, присваивающего чужих девушек! Ворваться и прочитать ему сардонический стих, морально размазать по стенке подлеца, посягнувшего на возлюбленную поэта, и хорошо бы Эфра при этом присутствовала… Он, впрочем, понимал, что дальше фантазий дело не пойдет. Ссориться с колдуном будет только законченный псих. Если вспомнить, как Бранд и Эфра стращали своего младшего товарища «лордом», нрав у этого деятеля однозначно не ангельский, так что наяву Стефан воздержится от прямого конфликта, разве что балладу напишет.
Ни совести, ни чести не имея, злой чародей шныряет по Кордее, и вздрагивают все, кому он снится, дорога привела его в больницу…
Ритм задан, можно работать дальше.
Тут Стефан хихикнул, хоть и было ему на ветру да на холоде не до смеха. Если судить по Эфре и Дику, Валеас Мерсмон насобирал людей к себе в команду главным образом по больницам, из жертв криминальных происшествий. Готовая тема для эпиграммы. А с другой стороны, сильный ход: вылечить умирающего, взять под защиту затравленного, подарить вторую жизнь… Как там сказала Эфра: «буду служить ему верой и правдой»?
Да, она ведь еще кое-что примечатальное выдала: «Лучше какое угодно зло, чей такая норма».
Стефан несколько раз повторил про себя эту фразу, и ему стало жутковато. Он боялся за Эфру — и самой Эфры тоже боялся. Еще боялся, что никогда больше ее не увидит, и боялся новой встречи. Боялся, что она не захочет с ним разговаривать, и боялся, что она опять скажет что-нибудь, наводящее оторопь. Боялся, что между ними никогда ничего не будет, и боялся мучительных взаимоотношений, от которых потянет в петлю или в прорубь.
Эфра — его Погибель, это яснее ясного. Может быть, ему суждено умереть от страха?