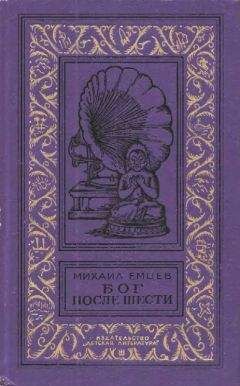Слушая, как Пуф кокетничает с веселой колхозницей, Маша подумала:
“Я умру”.
Подумала, как сказала вслух — громко, явственно. Или кто-то произнес эти слова за нее? Заиндевелый рынок, чайная в сизо-зеленом домике, встающее слепое солнце показались ей декорациями к неведомой пьесе.
Когда-нибудь, может быть — сейчас, пьеса кончится, придется встать и уйти. В финале — смерть.
“Они не притворяшки, — решила про себя Маша, — они колобки. Катятся, катятся навстречу… чему? Ты не смерть ли моя, ты не съешь ли меня?”
Маша напряглась и поняла: она ждет смерти. Нет, было не страшно, лишь одно удивление — неужели именно теперь?
Солнце поднялось повыше, и город порозовел. Настоящее цветное зимнее утро. Но Маша твердо знала — это обман. Там, за переливом искр на снегу, за блеском взглядов, за улыбками, за твердостью, теплом и жизнью, расположилась необъятная черная пустота. Она-то и есть главная, потому что ее много и всё в конце концов в нее попадает. Все. В том числе, она, Маша.
В присутствии Маши часто говорили о смерти. Потом она ее увидела. Смерть дочери оглушила ее. Горе было огромным и глубоким.
И все же тогда она не понимала. Ее спасал здравый смысл и непрерывная надежда. Надо жить, говорили кругом — близкие, родные, друзья. Надо жить, твердила мать. Ты еще молода.
Эти слова повторялись на все лады. Ты еще молода. Еще. Еще. А не “еще” — тогда можно и не жить? Молода. А не молода… Глупости, вопиющие глупости говорили ее родственники.
Маша сердилась, много думала, любила поговорить о смерти. Притворяшки умело разглагольствовали, и смерть как тема всегда их привлекала.
Маша тоже говорила, но не понимала.
Видела, сопереживала, но вся суть ее живой натуры была далека от смерти.
И вдруг морозным утром в чужом, до враждебности незнакомом месте — поняла. По-своему. Я умру.
Поняла, испугалась. С надеждой посмотрела на Кару. С надеждой и преданностью.
Любила его.
Сложное это было чувство, поди расшифруй, в какие иероглифы сворачивается любящая душа. “Сильный, очень сильный человек, — думала Маша, — вот кому можно поверить, на такую личность можно опереться”.
Любила Кару, как меломанки — прославленного тенора. Любила просто — как вероятный уют, тепло и возможность свернуться калачиком, мурлыкать сладко и долго.
Любила непросто — в ожидании бурь, встрясок, неожиданных озарений…
Полюбила еще и потому, что ни бывший муж, ни Худо и в подметки не годились Огненному старцу. Так считала Маша.
Старая, как мир, игра с тщеславием: меня отвергли, а я нашла лучшего!
Временами на нее накатывал серый туман безвременья. Тогда ничего не происходило вокруг Маши, все уходило в прошлое. Вдруг вспоминала, как муж стал присылать деньги по почте. Почему-то было очень обидно получать большие красные и маленькие зеленые бумажки, отсчитанные быстрыми пальцами почтальонных кассиров. Денег было оскорбительно мало, и постепенно от мужниного молодого лица у нее в памяти ничего не осталось, кроме шуршания бумажных полосок. Со смертью дочери этот звук пропал. Сколько раз пыталась Мария вспомнить мужа и не могла. Вычистило, вымело из мозга образ предавшего человека. Мать удивлялась:
— Как ты можешь? Не позвать отца на похороны ребенка!
— Я забыла, мама, — говорила Маша и про себя напряженно соображала: какого отца, о ком речь? Тот молодой человек с необыкновенным блеском глаз, в ореоле курчавых черных волос представлялся ей далеким, случайным, каким-то троллейбусным знакомым. Поговорили и сошли на разных остановках. Муж? Нет, мать решительно ничего не понимала…
Куда-то пропал Костя, и это было несущественно. Олег стал придатком “Москвича”, Пуф растворился в улыбках и ужимках, и на первый план выплыл Кара. Как он говорил, как говорил! Каждое слово благовестника снимало частичку тяжести с Машиной души, она освобождалась от прошлого и будущего. Впереди ничего и позади тоже ничего… Тихо, чисто.
После поражения у лесорубов проповедник склонялся к людям пожилого возраста, выдержанным в борьбе за веру и, видимо, готовящихся к приятию иного мира. Черные платки, постные лица, поджатые губы — вот фон, который теперь выбирал себе Кара.
— В своем отечестве нет пророка, — говорил проповедник, сложив большие руки горкой.
После бегства Кости Кара внешне присмирел, неистовства его поубавилось. Сдерживал себя, хотя все видели: горит он внутри. Особенно явственно ощущала это Маша.
— Все это уже было: побивали камнями, изгоняли, не понимали. Терпеть надо, гордыню смирять, тогда путь откроется. Я вот выступал перед нечестивцами и озлился. Позволил себе и тут же был наказан за гордость.
— Терпеть надо, терпеть, — говорили слушатели, качая головами. Покаяние проповедника делало его грешным и близким.
— Главный грех в том, что допустил общение. Сказано ведь — не ходи на совет нечестивых. А я пошел, даже сам его созвал, поддался соблазну. Поддашься одному соблазну, и тысячи их придут следом. Вот как!
Кара строго смотрел на старушек и стариков, давая понять, что их-то общество и есть наилучшее и чистое, не имеющее никакого отношения к нечестивцам. Льстил почитателям прямо в лицо и попадал в точку. Проповедника жалели, опекали, холили.
Но Маша видела одно: наставника уважали. И ее собственное уважение становилось глубже, непреклонней.
В тот переломный для себя день, после трапезы с благочестивыми разговорами, она подошла к наставнику и тихо попросила:
— Поговорить надо.
Кара окинул женщину взглядом. Что-то понял:
— Пойдем.
Они уединились в маленькой горенке, которую хозяева предупредительно освободили для гостя.
— Говори.
Маша замялась, как-то неловко показалось вот так сразу рассказать о заветном.
— Душа томится? — предвосхищая, спросил Кара. — Смертельный страх тревожит?
— Да, да! — истерически всхлипнула она. — Со мной что-то… Я сегодня поняла, что умру, скоро умру… Так тоскливо, одиноко стало!
Она схватила его за руку, прижала ее к груди. Он погладил женщину по голове. Рука Кары была сухая и горячая.
— В теснине тела живем, — туманно сказал он. — Над нами узенькая полосочка спасительного неба. Трудно подняться к нему, больно. Вопиет плоть, смерти боится. Страх этот у всех есть, только надо уметь обуздать его. Верой, воздержанием, молитвой. Слышишь — воздержанием, дочка!
И Кара легонько оттолкнул молодую женщину. Она ему не нравилась. “Истеричная дура”, — не раз бормотал он про себя, слушая ее вдохновенные, лживые россказни.
Маша побледнела. Она все поняла. Этот человек отвергал ее преданность, ее доверие, ее любовь. Несколько секунд она молча переводила дух. А Кара меж тем углубился в смакование вопроса: