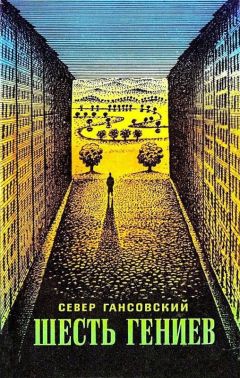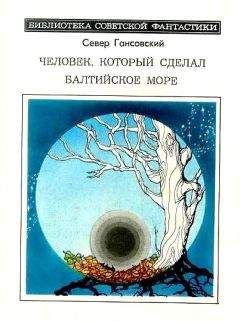Профессор Гел задался целью всесторонне исследовать влияние солнечной энергии на жизненные процессы. Он располагал огромным количеством фактов. В том числе он запросил у Центрального статистического бюро точную информацию о количестве рождений, приходившихся на каждый день первого тысячелетия академической эры. Сопоставив полученные цифры с соответствующими данными метеорологического архива, профессор Гел пришел к выводу, что рождаемость резко повышается в светлую, солнечную погоду и катастрофически падает в пасмурную, дождливую. Когда он опубликовал результаты своих вычислений, мнения ученых по этому поводу разошлись. Одни утверждали, что профессор Гел не совершил никакого открытия, что это явление было отмечено уже давно. Не случайно, говорили они, на нашем языке “родиться” и “появиться на свет” означает одно и то же. Профессор всего лишь статистически подтвердил эту истину. Задача состоит в том, чтобы найти естественное объяснение такой закономерности. В своей многотомной работе “Мы — дети солнца” профессор Гел изложил ряд гипотез, объединенных единой мыслью: солнечная энергия — источник жизни. Противники взглядов профессора утверждали, что его наблюдения о рождаемости носят случайный характер и необходимо обобщить данные не одного, а нескольких тысячелетий. Приступив к этой работе, они обнаружили, что в результате ошибки электронной счетной машины профессору были в свое время направлены сведения не о количестве рождений, а о регистрации новорожденных родителями. Выводы профессора, таким образом, убедительно свидетельствовали лишь о том, что марсиане и в первом тысячелетии предпочитали выходить из дома не в дождливую, а в солнечную погоду.
Итак, профессор Гел ошибался? Несомненно! Но именно в “Детях солнца” он высказал те мысли, которые легли позднее в основу телеологии — науки, неопровержимо доказавшей связь деятельности нашего организма с различными моментами солнечного цикла. Я не претендую на то, что моя парфюмерическая гипотеза дает исчерпывающие ответы. Но она заслуживает серьезного рассмотрения.
Академик Ар задал профессору Беру несколько вопросов, а затем спросил у Кина, каково его мнение о парфюмерической гипотезе. Кин сказал, что все это следует тщательно обдумать. Он был чем-то явно расстроен. Вначале он слушал сообщение Бера очень внимательно, делал в своем блокноте какие-то заметки, казалось, что он готовится к полемическому выступлению, а затем он отложил свой карандаш, и лицо его приняло какое-то отсутствующее выражение. Профессор Бер предполагал, что Кин отнесется к его сообщению со свойственной ему горячностью и запальчивостью. Но Кин хранил молчание до самого конца вечера. Лишь незадолго до того, когда Ар предложил закончить беседу, Кин спросил у профессора: “Уверены ли вы в том, что ваша гипотеза открывает, а не закрывает перед нами пути к Живому?” Бер ответил, что он не совсем понимает этот вопрос. Кин покачал головой и ничего не сказал.
Сейчас, лежа на койке дежурного в комнате Живого, Кин пытался ответить самому себе на мучительные вопросы, которые вызывало у него сообщение Бера. Он размышлял над тем, что практически должна означать парфюмерическая гипотеза, если она справедлива. Отдает ли себе в этом Бер достаточный отчет?
В комнате было темно. Кин знал, что там, у противоположной стены, спит Живой. Кин знал это, но сейчас он не видел его и не слышал. Ничто не выдавало присутствия Живого. Между ним и Кином — пелена мрака. Если зажечь свет, Кин увидит Живого, но увидит ли его Живой, даже если проснется? Что такое для него Кин, если, как предполагает Бер, главным и определяющим признаком предмета в сознании Живого служит парфюмерический образ? Кин понюхал свою ладонь. Ему показалось, что она ничем не пахнет, во всяком случае он не смог уловить никакого запаха. И вот это неуловимое, совершенно неизвестное самому Кину и есть Кин, такой, каким он представляется Живому? Если это так, то они никогда не смогут понять друг друга.
Когда Кин шел на вечернее совещание, ему не терпелось рассказать своим коллегам, к каким потрясающим результатам привели новые опыты с палкой. Кин установил совершенно точно, что Живой принес ему палку не случайно. Это был рискованнейший опыт. Кину пришлось собрать все свои душевные силы, чтобы на него решиться. Когда он, наконец, в первый раз бросил палку, он от волнения закрыл глаза и боялся их открыть. И когда он все же увидел стоявшего перед ним Живого с палкой в зубах, он пришел в буйное ликование. Живой приносил палку двадцать раз. Значит, между ним и палкой была определенная связь. До совещания Кин был уверен в этом. А сейчас?.. Живой мог приносить палку потому, что на ней оставался запах ладоней Кина, связь была между палкой и Кином, а не между палкой и Живым. Парфюмерический образ — в сущности это значит, что Живой навсегда останется на таком же расстоянии от Кина, как та неизвестная планета, с которой он прибыл: ведь расстояние между живыми существами следует измерять тем, как они способны понимать друг друга. И все-таки Кин чувствовал, что Живой ему близок. Но это всего лишь чувство, оно может быть обманчиво.
Кин беспокойно ворочался, он не мог уснуть. Его продолжали одолевать самые грустные мысли. Неужели Живой останется всего лишь живым метеоритом? Таким же загадочным и чужим, как те камни, которые собраны в коллекциях музея? По своей форме и своему химическому составу они — родные братья гранитам и базальтам в марсианской коре. Кин даже писал когда-то, что если бы у метеоритов был язык, он немногим отличался бы от языка марсианских камней, они легко могли бы договориться друг с другом. Как видно, он сильно преувеличивал значение химического состава. Но то, что камни не могут понять друг друга, так на то они и камни. Впрочем, Кин без всякого стеснения заставлял их разговаривать в своих фантастических историях. Теперь он не сможет этого делать с такой легкостью. Где уж камням говорить друг с другом, если даже живое не имеет общего языка.
Нет, лучше бы профессор Бер не развивал своей парфюмерической гипотезы, лучше бы она не казалась такой убедительной. Гипотеза академика Ара позволяла надеяться, что со временем Живой оправится от шока, но от самого себя, от своей парфюмерической природы он не освободится никогда. И как бы Кин ни любил Живого, а он очень привязался к нему за эти дни, все равно при всем желании Кин не сможет стать парфюмерическим существом, не сможет ощущать мир так, как Живой, и они никогда не поймут друг друга. И все-таки странно, почему даже сейчас, в темноте, в тишине, когда ничего не видно и ничего не слышно” Кин чувствует, что он здесь не один. А ведь ему случалось иногда ощущать одиночество даже в стенах музея, хотя он так любил свои камни, мог разглядывать их часами и думать о них.
Прикасалась ли хоть к одному из этих крохотных осколков далеких планет рука разумного существа? Об этом можно было спорить. И сам Кин был уверен, что среди его камней есть и такие, которые несут на себе отпечатки пальцев неведомых цивилизаций. Но он был также уверен и в том. что все эти камни попали на Марс случайно. Это — результаты вулканических катастроф, потрясших затерянные в космосе острова жизни. Это не письма, не вести, не подарки, посланные разумом с одной планеты на другую. Кин часто задумывался над этим. Глядя на собранные им метеориты, он размышлял, а что бы он, Кин, изобразил на камне, который можно было бы направить во вселенную, точно зная, что это каменное письмо попадет на какую-нибудь обитаемую планету. И он не мог найти такого изображения, такой формы, которые могли бы раскрыть мир его чувств перед никогда не видевшими его существами. Он боялся столкнуться с их непониманием. Нет, он не считал других обитателей вселенной невежественными. Наоборот, он исходил из того, что они могут быть наделены весьма богатыми познаниями. Но именно это не позволяло ему остановить свой выбор ни на одной из форм, которые подсказывались воображением. Кина пугала возможность бесчисленных истолкований. И он полагал, что эти же опасения должны были останавливать и жителей других планет. Письмо разумно посылать, только надеясь быть правильно понятым. А что может подкрепить такую надежду?
Вот если бы он мог создать такую вещь, которая была бы способна просто впитать его чувства и потом передать их другим, совершенно независимо от своей формы. Какой бы это был замечательный подарок! Его нельзя было бы истолковать по-разному. Он исключал бы само толкование. Но такой “метеорит” мог быть сотворен лишь из какого-то особенного вещества, наделенного способностью вбирать в себя чувства, хранить их и излучать. Однако такого вещества нет. Во всяком случае его нет на Марсе, и не из такого вещества созданы все собранные Кином камни. Это должно быть живое вещество, подвластное рукам и сердцу художника. Есть ли оно на какой-нибудь из планет во вселенной? Живое вещество, из которого можно было бы изъять живую радость, грусть? Живое вещество, способное на такую степень самоотречения, чтобы стать живым произведением искусства, не только впитавшим в себя чувства, которые вложил в него художник, но и любящим его, художника, этими созданными сотворенными чувствами?
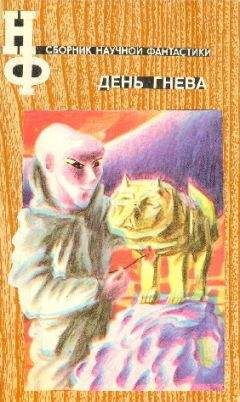
![Север Гансовский - Шесть гениев [Сборник]](https://cdn.my-library.info/books/82955/82955.jpg)