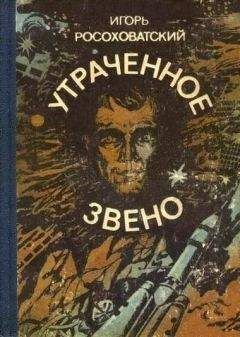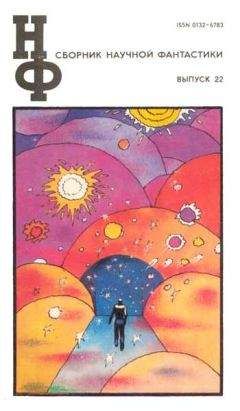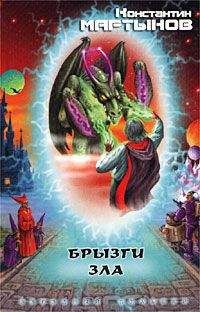Необычная картина. Приходится все время убеждать себя, что это реальность. Такая же, как и то, что я, единственный из экипажа «Омеги», остался жив. Один. Предоставленный самому себе.
Когда-то давно, после проигранного состязания Борис утешал меня: «Ничего, за все неудачи судьба в будущем сразу отплатит одним большим выигрышем». И вот, пожалуйста… Нелепый случай наградил меня «везеньем». Мне удалось пока уцелеть. Я не погиб сразу, вместе со всеми, сумел каким-то чудом выбраться из корабля. При ударе не пострадали защитные кольца и не произошло взрыва. Судьба словно берегла меня… Для чего? Не придется ли вскоре завидовать мертвым?
Вообще-то меня никогда не считали «везунчиком». Ничего в жизни не давалось даром. Рос я некрасивым, коренастым парнем с большой головой на короткой шее. Круглое лицо с растянутым ртом и крупным, расплюснутым на конце носом, оттопыренные уши. Никаких выдающихся способностей, разве что память цепкая. За всегдашнюю боязнь насмешек, настороженность и короткую стрижку друзья прозвали «ежиком». Девушки в школе не обращали на меня никакого внимания. Я должен был вечно самоутверждаться, вечно доказывать что-то себе и окружающим. Только по этой причине учился я неплохо, иногда побеждал на математических олимпиадах. Правда, до первого или второго места не дотягивался, но в десятку сильнейших входил. Стал мастером спорта по шахматам и планерному спорту.
Потом — факультет электромеханики политехнического института. Работа на космодроме. Училище космонавтов. Дружба с Борисом Корниловым. Первые полеты на окраины Солнечной системы, известность.
Девушки смотрели на меня уже с долей восхищения, и я этим умело пользовался. Женился на красивой девушке, Ольге, статной, длинноногой, с искрящимися весельем глазами. Через год она родила мне сына, Глебушку. Это были счастливые безмятежные дни. Временно я опять перешел работать на космодром. Борис звал в рейс, но я крепился, сколько мог. Потом не выдержал: улетел на полтора года. Прилетел — и не узнал сына, так он подрос за это время. Он мог часами расспрашивать меня о кораблях, о космосе. Мне было хорошо с ним, и я даже побаивался, что больше не захочется улетать. Тогда я еще не знал, как трудно постоянно удерживать уважение жены и сына, как мне понадобятся полеты, встречи с опасностями, испытания мужества и воли, слава…
…Малейшее движение отдается пронзительной болью в тех частях тела, которые еще чувствуют. Никогда я так ясно не осознавал единства жизни и боли. Передвигаюсь сантиметр за сантиметром, и уже успел так устать, что страх быть изжаренным в собственном скафандре притупился. Тень медленно скользит впереди меня — необычная тень, багрово-черная, посеребренная по краям. Я наблюдаю как бы со стороны за человеком в скафандре. Он пытается ползти, воет от боли. А в это время его тело сковывает онемение. Там, где оно захватывает новый участок, боль исчезает. Можно остановиться, лечь пластом, — и боль прекратится навсегда. Но человек движется, движется вопреки всему, и боится он не столько боли, сколько «спасительного» онемения.
Тень уже почти достигла холмика. До скалы совсем близко. Но и светило поднимается все быстрее. Тень укорачивается. Она уже только слегка обгоняет меня. Дышать становится намного труднее.
Вдали — справа — слышится шорох, и я опять невольно бросаю взгляд в том направлении, куда старался не смотреть. В мерцающем облаке, окутавшем гору, проступает искаженное лицо, похожее на человеческое. Наверное, каким-то образом там возникло мое отражение. Значит, это у меня сейчас такой перекошенный рот, безумные глаза. Но ведь то лицо видится мне не в овале скафандра. Поэтому и кажется таким страшным и неестественным, что я не могу объяснить его возникновения…
Спешу переключить сознание на другое. Вспоминаю, как однажды гулял с сыном — уже семиклассником — по заснеженному парку. Снег лежал горами… Снег… Я прокручиваю в воображении эти картины, пока мне не становится немного прохладнее и легче. Вот что способно сделать воображение. Но оно может и другое… Например, создать вон то лицо…
Стоп! Я гулял с сыном по заснеженному парку, и он рассказывал мне, что записался в кружок юных космонавтов, и его вступительную работу оценили наивысшим баллом. А теперь он, оказывается, готовит к олимпиаде чертеж звездного корабля новой конструкции. «Совершенно серьезно, папа! Я показывал его Олегу Ивановичу, и он сказал: «Классно! Из тебя, Подольский, выйдет конструктор!»
Я кивал головой в ответ на его слова, а сам вспоминал, не тот ли это Олег Иванович, который однажды приходил на космодром и приглашал меня выступить во Дворце пионеров. В этом совпадении не было, конечно, ничего предосудительного, и моя слава могла быть ни при чем. Но я подозревал, как легко и приятно переоценить собственного сына, и оправдывал свою подозрительность.
На второй день я пришел к Олегу Ивановичу, и он подтвердил, что мой сын делает, по его мнению, весьма перспективную работу. Он так и выразился «весьма перспективную» — и удивленно смотрел, как я озабоченно хмурю брови. А я изо всех сил сдерживался, чтобы не расплыться в гордой и счастливой улыбке.
Супил брови я еще не раз — зачастую совершенно искренне, когда Глебушку наперебой приглашали девушки на дни рождения и вечера танцев. Он внешне пошел в Ольгу — высокий, с красивой круглой головой, четко очерченными, слегка полноватыми губами, с классическими носом и подбородком. Только уши подкачали — это были мои уши, торчком. Но он научился умело скрывать их густыми длинными волосами.
В девятом классе он получил первый болезненный щелчок — на школьной математической олимпиаде занял лишь седьмое место. Больше всего меня огорчило, когда он начал искать для себя «оправдательные мотивы» и винить в предвзятости одного из членов жюри. Выходит, я что-то проглядел в своем сыне. И немудрено. Полеты, полеты… А сын тем временем рос. Я не сумел вовремя нейтрализовать похвалы и комплименты в его адрес. Но прекратить длительные отлучки не собирался. Не мог. Я уже накрепко привык, что Глеб гордится мной, собирает газетные и журнальные вырезки, показывает их своим друзьям…
Шорох слышится снова, затем звучит протяжное гудение. Мерцающее облако меняет очертания и цвет. Иссиня-черное, оно успело перемолоть отрог горы и создает из него подобие арки. Может быть, это не марево? Но в таком случае что же? Инопланетный корабль в защитной оболочке? А почему в нем проступает лицо человека?
Голова кружится, разламывается от боли. Такое состояние уже было у меня. Еще в юности я попал в аварию на планере. «Легкое сотрясение мозга», — диагностировали потом врачи. А мне никак не удавалось вспомнить, на самом ли деле было падение, набежавшее под углом в сорок пять градусов поле, хруст дюраля, удар лицом о панель приборов. Осталась боль в губе, и я осторожно касался языком соленой вспухшей губы, пробуя ее «на реальность». Но как только я отнимал язык, мне казалось, что ничего не было, а падение просто почудилось.